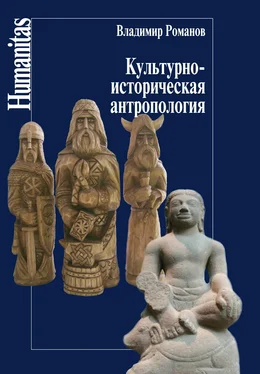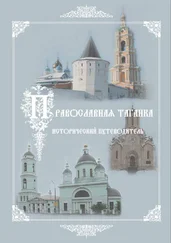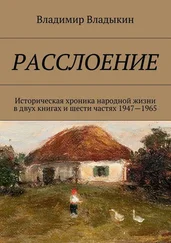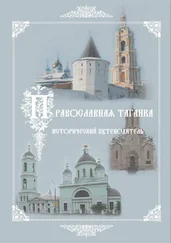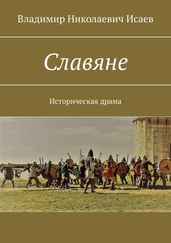Дальнейшее продвижение вперед в этом направлении блокировалось, однако, моей же собственной, глубоко укоренившейся, хотя и вполне пред-рассудочной (как это выяснилось, правда, только впоследствии) установкой, не позволявшей мне увидеть в подобного рода нормативных текстах нечто большее, чем чистое проявление самой естественной способности человеческого существа. Уже одна видовая его характеристика как существа разумного заранее и без всякой задумчивости с моей стороны однозначно воспринималась верным залогом того, что человек во все времена и в любой культуре в силу универсальности человеческой природы просто изначально способен к произвольному и целенаправленному текстовому нормотворчеству.
Изживание этой пред-рассудочной установки оказалось делом весьма затруднительным, но лишь до тех пор, пока для меня в полной мере не прояснился тип задач, неизменно встающих перед любым создателем нормативного текста. Их решение вне зависимости от того, идет ли речь о древности или о нашем времени, предполагает сходные по своей структуре операции. Для того чтобы дать внеконтекстное описание нормы, которое только и может послужить для остальных членов социума однозначно читаемым алгоритмом, человеку необходимо преодолеть сначала свою связанность с психологическими полями ситуационной действительности, выйти за их пределы, отвлечься от них – и соответственно от самого себя в них – и лишь затем вернуться к той же самой действительности, но осмысленной уже не собственным присутствием в ней, а с помощью ее аналитического текстового отображения. Именно в ходе такого внутреннего абстрагирующего движения как раз и сотворяется то обособленное от практики умозрительное пространство, переместившись в которое создатель нормативного текста, отвлекшийся на время от своего телесно-деятельного присутствия в предметно-событийном мире, в состоянии занять по отношению к нему позицию отстраненного наблюдателя, целенаправленно вычленяя и объективируя в той или иной системе кодов спонтанно сложившуюся в нем прежде поведенческую норму.
Начиная с этого момента, когда стало более или менее понятно, что древние и современные культуры, если рассматривать их с точки зрения способности человеческого существа к произвольному отвлечению от своего деятельностного присутствия в мире и занятию по отношению к этому миру определенной метапозиции, явственным образом обнаруживают типологически сходные черты, мое первоначальное смутное подозрение начало постепенно перерастать в некоторую предварительную, «рабочую» гипотезу. Исходя из факта появления и повсеместного распространения в древних обществах разнородных по содержанию нормативных текстов, логично было предположить, что именно в эту эпоху – и, разумеется, не только в Индии – случилось событие чрезвычайной для филогенетического развития человечества важности. Суть его сводилась к формированию принципиально нового пространства познавательных возможностей, вызванных к жизни конституированием вне-ситуационной и теоретической по своей умозрительной природе нормотворческой текстовой деятельности, обособленной от иных практик и по месту и по времени.
Фундаментальное значение этого события и его каузально-динамическое объяснение мне еще только предстояло выяснить в дальнейшем. Главное, однако, заключалось в том, что теперь оно предстало уже передо мной в качестве вполне осязаемого предмета конкретного исторического исследования, нацеленного на выявление типологических характеристик как древней, так и предшествующей ей первобытной культуры. Ведь исходная моя «рабочая» гипотеза с необходимостью предполагала, что именно в древности впервые стала формироваться та, ставшая впоследствии совсем привычной и кажущаяся нам теперь совершенно естественной, данной нам как бы от природы, мыслительная дистанция, которая оказывалась достаточной для того, чтобы человек «прозрел» наконец в отношении окружающего его мира и соответственно весь этот мир превратился бы для него (по крайней мере потенциально) из практически обживаемого присутственного места в сторонний и до сих пор невиданный объект – объект нормативного текстового отображения.
Естественно, что гипотеза эта могла получить хоть какое-то право на существование только в том единственном случае, если бы удалось действительно выявить некоторые основания, по которым предшествующую древности первобытную культуру можно было бы с известной долей уверенности отнести к разряду, условно говоря, «незрячих» – или, как мы будем называть их в дальнейшем, симпрактических, – кардинально отличающихся от «зрячих» культур теоретического типа и по способу передачи информации, и по предоставляемым ими познавательным возможностям. Однако и здесь, при решении этой задачи, в первую очередь мне опять пришлось преодолевать свои же собственные пред-рассудочные установки, заставлявшие меня как существо разумное – что к тому времени самым зримым образом подтверждалось уже наличием на руках документа о законченном и к тому же высшем образовании – изначально сомневаться в самой возможности существования такого рода симпрактических культур, где целесообразное и системное поведение человека не являлось бы функцией предварительного речевого планирования и где проблема построения адекватного ситуации поведения имплицитно решалась бы совершенно иначе, на принципиально иных уровнях человеческого естества.
Читать дальше