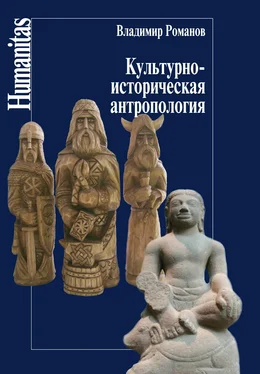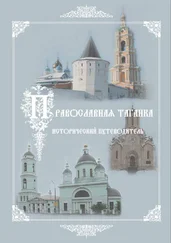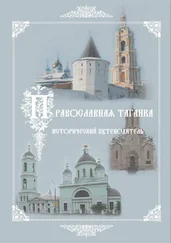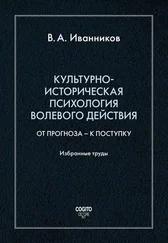В последние годы жизни В. Н. Романов вернулся к исследованию санскритских текстов. Уйдя из МГУ в 2006 г., он стал профессором РГГУ в Центре сравнительного изучения культур Востока и Запада (Институт восточных культур и Античности). Он давно пришел к выводу, что наиболее творческим периодом в истории древнеиндийской цивилизации была та эпоха, когда создавались поздневедийские тексты, так называемая брахманическая проза. Обширные памятники данного жанра переводились преимущественно в конце XIX и в начале XX века. При этом нередко исследователи жаловались на туманность изложения и хаотичность построения трудов древнеиндийских ритуалистов. В историографии им уделялось несравненно меньше внимания, чем упанишадам, в которых усматривали истоки классической индийской философии.
В. Н. Романов успел напечатать переводы двух книг наиболее обширной и важной брахманы – Шатапатхи. Значительные фрагменты этого памятника были переведены и еще ждут публикации. Во вступительных статьях и обширных комментариях дан анализ терминологии и продемонстрирована значимость деятельности авторов брахманических текстов для формирования той культуры, которую автор называл «теоретической». Сама логика построения брахман была им выявлена и убедительно продемонстрирована – таким образом изучение всей поздневедийской культуры поднято на новый уровень.
Владимир Николаевич не планировал полный перевод Шатапатха-брахманы. Важнейшей задачей для него была выработка языка и стиля перевода. Ему необходимо было вскрыть тот круг ассоциаций, который был актуальным для создателей брахман, а потому он с пристальным вниманием изучал не только сам ведийский ритуал, но и ту повседневную реальность, в которой жили и творили ритуалисты. Романов воинственно относился к попыткам вносить в интерпретацию брахманической прозы туманный мистицизм. В его переводах древнеиндийские мыслители говорят языком не похожим на язык немецкой профессуры позапрошлого века – зачастую выражаются по-мужицки грубо, иронизируют, порою употребляют слова и образы, которые способны шокировать рафинированную публику. Но при этом у вдумчивого читателя появляется уверенность, что именно здесь они, действительно, говорят своим голосом. В. Н. Романов любил рассуждать о диалогической природе гуманитарного знания. А в последних работах он словно беседовал с ведийскими риши, понимая то, что они хотели и могли сказать на языке своей культуры. Диалог этот был трагически прерван.
А. А. Вигасин
Кончина Владимира Николаевича Романова – для меня большая утрата и неожиданный удар. Я бываю в Москве наездами, раз в год по сентябрям, а остальное время живу далеко от Москвы и нередко скучаю по своим старым друзьям и коллегам. Нынешние скайпы и мейлы в большой мере скрашивают мне нехватку общения с ними, однако Володя – единственный из всех близких мне людей – не пользовался ни тем, ни другим, и не из какого-то надуманного снобистского принципа. Сам он на мой вопрос «какой у тебя адрес в мейле и скайпе» отвечал легким сожалеющим пожатием плеч. «Нет, я понимаю, ты живешь далеко, тебе все это очень важно», – спешил он оправдать меня и оправдаться сам. Думаю, что все эти новейшие и, на мой взгляд, замечательные технические возможности ему виделись не более чем симуляцией, чем-то вроде искусственных фруктов из пластмассы, а он, как никто, был естественен, прям, честен и саморавен.
При этом он вовсе не был человеком, который может пойти на бестактность ради того, чтобы полнее выразить то, что считает за истину, он был тактичен, чуток и бережен к собеседнику, но – никогда не кривил душой.
Впервые я познакомилась с ним на семинаре в Институте востоковедения, где мы оба работали, еще в 80-е, когда большие перемены в нашей стране еще только начинались. Многие из нас (говорю прежде всего о себе) тогда ожидали новых методологических и эвристических горизонтов, хотя еще не могли предугадать, каковы они будут – эти новые измерения и энергии нашей будущей научной деятельности, с которой постепенно спадали идеологические ограничения и запреты. Большинство в нашей компании были «древники» и медиевисты; мы, в отличие от «современщиков», благодаря сделанному нами выбору периода исследований избегли необходимости все время провозглашать классовость своих позиций и через каждое слово поминать классиков марксизма-ленинизма. Нам было позволено несколько больше «отклоняться» и в теоретическом, и в методологическом отношении. Все мы к тому времени привыкли жить достаточно замкнуто в своих герменевтических мирах, и теперь нагрянувшая свобода писать и говорить то, что раньше было нельзя, читать и цитировать то, что прежде было недоступно, требовала от нас некоего внутреннего расширения и взлета – так, во всяком случае, это ощущала я, но, как я помню, ощущение было практически общим для всех нас.
Читать дальше