Так что нейробиология здесь не очень помогает. Я обратился к психологии. Психолог Дин Кит Саймонтон в важнейшем исследовании показал, что у великих умов творческая результативность и способность воспринимать новое от других имеет особенности: спад определяется не столько возрастом человека, сколько тем, как долго он работает в одной сфере. Ученые, меняющие предмет исследования, похоже, регенерируют свою открытость. Это не хронологический возраст, а «предметный».
Сюда можно отнести разные случаи. Возможно, ученый меняет сферу деятельности, мыслит теми же штампами, как в свою бытность физиком-теоретиком, но теперь, когда он занимается современным танцем, это кажется свежим и новым. Это было бы не так интересно. Вероятно, смена дисциплины действительно стимулирует ум к частичному возвращению юношеской открытости к новому. Нейробиолог Мэриэн Даймонд показала, что один из самых верных способов заставить нейроны взрослого создавать новые связи – это поместить организм в стимулирующую среду. Может быть, дело в этом.
Альтернативное объяснение находит поддержку в недавних работах Саймонтона: то, что действительно губит интерес к новому у стареющего ученого, – это ужасное состояние… собственного величия. Новые открытия по определению ниспровергают устоявшиеся представления интеллектуальных элит. Таким образом, седовласые знаменитости становятся реакционерами из-за того, что по-настоящему новое открытие, скорее всего, вышибет имена их самих и их приятелей из учебников: от новизны они теряют больше всех.
Тем временем психолог Джудит Рич Харрис рассмотрела этот вопрос в контексте переоценки людьми групп, в которые они входят, и очернению внешних групп. Группы «своих» нередко задаются возрастом: например, в традиционных культурах по возрасту определяется класс воинов, а в западных школах согласно возрасту обучают детей. Так что, когда вам пятнадцать, главное желание у вас и ваших друзей – дать понять как можно яснее, что вы не имеете ничего общего с возрастными группами, которые были до вас, поэтому вы хватаетесь за любое культурное безобразие, состряпанное вашим поколением. Спустя четверть века та же поколенческая идентичность заставляет вас стоять на своем: «С чего это я буду слушать эту новую дрянь? Когда мы громили Гитлера / слушали Айка / занимались сексом на Вудстоке, наша музыка отлично нам подходила». Люди готовы умереть за групповые различия. Так что они безусловно захотят слушать плохую музыку из солидарности со своей группой.
Работа Саймонтона предлагает первые объяснения, почему, скажем, Иоганн Штраус отстаивал перед Арнольдом Шёнбергом новую тогда мысль, что вальсировать всю ночь – приятно. А размышления Харрис могут помочь понять, почему поколение, повзрослевшее, вальсируя под Штрауса, не вернется к Шёнбергу. Но как биолог я упорно возвращаюсь к факту, что мы, люди, здесь не одиноки и ни величие, ни групповая идентификация не говорят нам достаточно, чтобы понять, почему старые звери не хотят пробовать новую еду.
Где-то посреди этих раздумий меня осенило: а что, если я задаю не тот вопрос? Может быть, вопрос не в том, почему по мере старения мы пренебрегаем новым. Может быть, наоборот, надо спрашивать – почему по мере старения мы тоскуем по тому, что нам хорошо знакомо? Трейси Киддер прекрасно запечатлела это в книге «Старые друзья» (Old friends): пациент дома престарелых говорит о забывчивом соседе: «Слушая воспоминания Лу первые два раза, умираешь от скуки. Но когда слушаешь их много раз, они становятся старыми друзьями. Они успокаивают». В определенный период детства малыши с ума сходят по повторению: они радуются, что освоили правила. Может быть, удовольствие на другом конце жизни состоит в осознании, что правила по-прежнему существуют и мы тоже. Если познание в старости требует повторов, то, вероятно, это гуманная причуда эволюции – успокаивать нас этой повторяемостью. Когда умирал Игорь Стравинский, он снова и снова стучал своим кольцом по металлической спинке больничной койки, каждый раз пугая жену. В конце концов она, в легком раздражении, спросила, зачем он это делает, если знает, что она все еще рядом. «Но я хочу знать, что я все еще существую», – ответил он. Может быть, повторяемость и покой движения по знакомой, неизменной территории – это наш стук по спинке койки.
Все ученые теперь должны сказать: «Очевидно, нужно больше исследований». Но насколько важна наша глухота к новому? Было бы здорово разобраться, как поддерживать наиболее плодотворные творческие умы в форме. Это что, большая общественная проблема, если слишком мало восьмидесятилетних с проколотыми языками едят сырого угря? Разве это преступление, если я так и продолжу слушать ту кассету Боба Марли? Есть даже свои преимущества для некоторых социальных групп в том, чтобы иметь пожилых людей в качестве защитников и архивариусов прошлого, вместо того чтобы пичкать стариков новинками. Физиолог Джаред Даймонд утверждал, что кроманьонцы отчасти обязаны своим успехом тому, что они жили на 50 % дольше неандертальцев: при какой-нибудь редкой экологической катастрофе у них было на 50 % больше шансов, что кто-то достаточно старый вспомнит, как это было в прошлый раз и как они с этим справились. Может быть, в моей старости саранча уничтожит запасы еды в университете, и я спасу молодняк своими воспоминаниями о том, какие из растений за общежитием съедобны (с сопутствующей лекцией о том, что регги уже совсем не тот).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

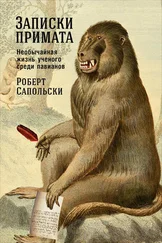



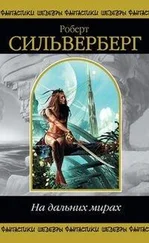


![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/405011/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros-thumb.webp)



