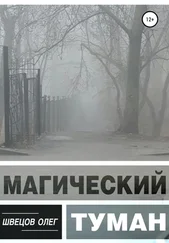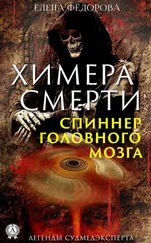Петроградский учёный А.А. Любищев (1890 – 1972), очутившийся из-за катастрофических демократических неурядиц в Пермском периоде своего творчества, писал в статье «Понятие эволюции и кризис эволюционизма» («Изв. Биол. НИИ и Биол. станции при Пермском гос. университете», 1925, т. 4, Вып. 4, с. 137 – 153): «Дарвинизм и разные школы псевдоламаркизма (механоламаркизм, психоламаркизм) являются, по существу, эпигенетическими направлениями, что давно было отмечено Данилевским. Как правильно отмечает Соболев, Дарвин пожал там, где не посеял и приобрёл славу основателя эволюционизма, не будучи эволюционистом. Если поэтому понимать эволюцию как противоположность эпигенеза, то можно сказать, что эволюционизм переживал жесточайший кризис как раз во времена почти неограниченного дарвинизма…»
Подобные замечания должны подсказать читателю, что в беседах мы не намерены специально касаться генетических аспектов эволюции. Генетические проблемы необычайно сложны, и погружение в них чревато потерей главной линии повествования. Наверное, вам известно, что чем глубже ищешь, тем больше теряешь перспективу горизонта. Поэтому вопросы генетики, которые развивают близорукость у любознательных, мы оставим в компетенции последователей Ф. Добржанского и Н. Дубинина. Впрочем, в части обсуждения разных теорий эволюции вопросы генетики будут затрагиваться, но, в основном, в плане усмотрения пассивной сохраняющей роли генов.
Стоит сказать, что сам Дарвин не видел в законах Менделя опоры своей теории.
В-шестых, мы не будем пережёвывать известное, кочующее из учебника в учебник. А сознательно выберем из литературы то, что вызывает положительные эмоции радости познания. Это основное условие запоминания и стимуляции собственной творческой активности. Надеюсь, что выражение «коровьих» глаз, возникающее при чтении официальных учебников дарвинизма, сменится человеческим блеском. Это и значит, что проснётся душа и породит те замечательные новые идеи, на которые не способно реакционное сознание…
Выбор только интересного обрекает меня на известную узость повествования. Здесь имеют явное преимущество профессиональные биологи. Но я и не собирался отбирать у них хлеб. У меня другие задачи. Помимо важнейших исторических сведений наше внимание среди эволюционных вопросов будут занимать прежде всего те, которые позволят применить для их понимания иммунологические подходы.
Более ста лет науке об иммунитете, но становится не по себе от мысли, что отрасль, которая располагает универсальными и уникальными сведениями для познания живого, осталась в стороне от столбовой дороги эволюции. Наверное, в этом виноват сам XX-й век. Век стрессов и страстей. которые губят лимфоидную систему.
В-седьмых, автор предполагает, что читатель уже познакомился с официальным дарвинизмом. Поэтому в повествовании будет больше внимания уделено тем трансформистам и антидарвинистам, о которых в советских учебниках сообщают мелким «ругательным» шрифтом. И автор будет вполне удовлетворён, если читателем не будут приняты даже его собственные концепции, но запомнятся идеи и заслуги инакомыслящих эволюционистов. Беда советского дарвинизма и принесённых ему в жертву студентов-медиков и биологов, не говоря уже о биологии как таковой, – это отсутствие инакомыслия. Наша биология давно проповедует принцип: «Жую – значит существую», вместо того, который и есть подлинная жизнь: «Мыслю – значит живу».
В-последних, автор этой небольшой книжки работает в Перми. Поэтому пусть не удивляется московский и курский читатель, что в тексте наряду с трудами известных российских учёных приводятся сведения о пермских биологах и трудах, посвящённых исследованию Урала… На этой земле тоже жили пророки. Пришло время вспомнить об этом. Итак, в дорогу Памяти и Жизни…
Беседа 1.
Что такое «вид»?
Хотя материалистическая наука, взращенная советской действительностью, претендует на истину в последней инстанции и «ответила» на все неясные вопросы биологии, тем не менее к заключениям официальной науки мы придем значительно позднее, а поговорим о тех сомнениях и неясностях, которыми полна философия эволюции, но которые двигали ее на протяжении столетий по направлению к истине, которая все же тем быстрее убегала, чем ближе к ней пытались подойти.
В эпоху сомнений и существования живой науки ответить на этот вопрос однозначно никому не удавалось. Да и можно ли рассчитывать на удачу? Попыток делалось множество, различные определения держались какое-то время в науке, но постепенно они переставали удовлетворять новое поколение исследователей. Чтобы судить о том, насколько шатки и неустойчивы все эти попытки дать всеохватывающее и не подлежащее никаким лжетолкованиям определение «вида», достаточно будет указать на следующий характерный факт.
Читать дальше

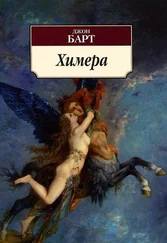

![Павел Швецов - Кибермаг 1 - Стертая личность [СИ]](/books/431046/pavel-shvecov-kibermag-1-stertaya-lichnost-si-thumb.webp)
![Павел Швецов - Эльфийка [СИ]](/books/431047/pavel-shvecov-elfijka-si-thumb.webp)