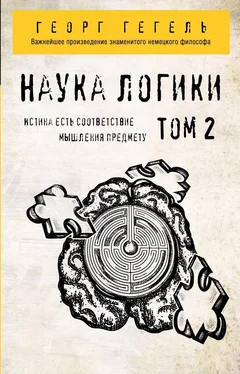Дело в том, что в разделительном суждении род содержит в себе принцип дифференциации только для видов, а не для единичностей (не для индивидов). Эти последние лежат еще за пределами того процесса определения или дифференциации, который имеет место в «объективной всеобщности», составляющей содержание разделительного суждения. Поэтому, поскольку ассерторическое суждение (с его «конкретной всеобщностью»), по Гегелю, непосредственно вырастает из разделительного суждения, постольку в нем еще нет необходимой внутренней связи между единичным (индивидом) и всеобщим (понятием).
Немецкое слово «Schluss» можно переводить трояким образом: 1) «умозаключение», 2) «заключение» и 3) «силлогизм». В настоящем переводе «Schluss» чаще всего передается словом «умозаключение», в отдельных случаях – словом «силлогизм» (особенно когда речь идет о «среднем термине силлогизма»). Всюду пользоваться термином «силлогизм» для перевода немецкого «Schluss» неудобно по той причине, что в русской философской литературе слово «силлогизм» употребляется в более узком смысле умозаключения от общего к частному, между тем как у Гегеля речь идет также и об индуктивных умозаключениях, умозаключениях по аналогии и т. д. Что касается термина «заключение», то его пришлось оставить для перевода немецких терминов «Schlusssatz» и «Konklusion», поскольку слово «вывод» не всегда пригодно для передачи этих терминов и служит для перевода слова «Folgerung». Необходимость переводить «Schluss» через «умозаключение» вызывается еще и тем, что глагол «schliessen» в большинстве случаев можно переводить только через «умозаключать», так как перевод его через «заключать» привел бы к шероховатостям и недоразумениям.
Необходимо, однако, отметить, что русское слово «умозаключение» не вполне соответствует немецкому слову «Schluss», особенно в том значении этого последнего, которое ему придает Гегель. Для Гегеля «умозаключение» (так же как и «понятие» и «суждение») имеет прежде всего объективное значение (объективное в смысле объективного и абсолютного идеализма). Он рассматривает «den Schluss» не как нечто такое, что имеет место в «уме», а как объективное соотношение моментов самого́ предмета или самого́ понятия (это для Гегеля одно и то же). Соответственно этому он толкует слово «Schluss» как «Zusammenschliessen» («смыкание воедино», «сключение»).
Под этим «претендующим на разумность познанием» (так же как и под «обыденной болтовней о разуме» в предыдущем предложении) имеется в виду «философия веры» Фридриха-Генриха Якоби (1743–1819), центральная мысль которой заключалась в метафизическом противопоставлении рассудочному знанию знания непосредственного, иррационального, мистического, не допускающего обоснования и доказательств. Это непосредственное иррациональное знание Якоби обозначал терминами «вера», «разум», «чувство», «духовное чутье», «откровение».
Гегель намекает на то, что латинское слово «concretus» происходит от глагола «concrescere», первоначальное значение которого – «срастаться, сращиваться».
Т. е. «единичное – особенное – всеобщее». В «Малой логике» Гегель дает такой пример: «Эта роза красна, красное есть цвет; роза, следовательно, обладает цветом» (Гегель, Соч., т. I, стр. 291).
Это – известное место из «Первой аналитики» Аристотеля (в т. I академического берлинского издания 1831 г., под ред. Беккера, стр. 25b, строки 32–35) в несколько вольном переводе Гегеля. Точнее это место гласит: «Если три термина так относятся друг к другу, что последний имеется во всем среднем термине, а этот средний термин либо имеется, либо отсутствует во всем первом, то в отношении крайних терминов необходимо имеет место полный силлогизм».
Эта «вторая фигура» умозаключения соответствует «третьей фигуре» Аристотеля, точно так же как «третья фигура» Гегеля соответствует «второй фигуре» Аристотеля.
В «Малой логике» Гегель пишет формулу своей «второй фигуры» наоборот: «B – Е – О» (см. Гегель, Соч., т. I, стр. 293). Такое начертание встречается и в «Большой логике» на стр. 137, 138 и 152. Дело в том, что для Гегеля основным и решающим в умозаключении является именно средний термин как опосредствующий крайние термины, тогда как расстановка крайних терминов (какой из них стоит на первом месте и какой на последнем) не может служить основанием для классификации силлогизмов.
В этом абзаце Гегель имеет в виду практикуемое в формальной логике «сведение» модусов третьей (а равно и второй) фигуры к модусам первой фигуры. Для иллюстрации возьмем какой-нибудь тривиальный пример умозаключения третьей (по Гегелю – второй) фигуры: «птицы имеют когти; птицы суть двуногие существа; следовательно, некоторые двуногие существа имеют когти». Средним термином в этом силлогизме служат «птицы»; бо́льшим термином служит «обладание когтями», а меньшим термином – «двуногость». Для сведения этого силлогизма к первой фигуре надо перевернуть меньшую посылку («птицы суть двуногие существа») или, выражаясь языком школьной логики, «обратить ее посредством ограничения». Тогда силлогизм примет такой вид: «птицы имеют когти; некоторые двуногие существа суть птицы; следовательно, некоторые двуногие существа имеют когти». Ввиду того что крайние термины «обладание когтями» и «двуногость» находятся во внешнем, безразличном отношении друг к другу, они могут меняться местами, и заключение может с таким же правом гласить: «некоторые снабженные когтями животные имеют две ноги».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу