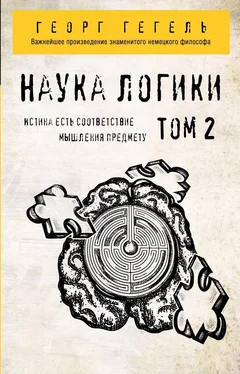Намек на «критическую» философию Канта.
Гегель хочет сказать, что только в самом конце изложения логика достигает полного познания самой себя, своего предмета и своего «понятия». Начинается же это самопознание логики (самопознание познания) с самых первых шагов логической науки, с категорий бытия и ничто. Во введении к «Науке логики» Гегель указывает, что его «объективная логика есть подлинная критика» «чистых форм мысли», рассматриваемых «в их особенном содержании» (т. I «Науки логики», стр. 39–40). В этом заключается одно из существенных отличий гегелевской логики от «критицизма» Канта, который требует критического исследования познавательных форм до самого познания, рассматривая эти формы как пустые априорные формы, извне накладываемые нами на внешнее им содержание. По Гегелю, логические формы составляют «живой дух действительного» (Гегель, Соч., т. I, стр. 267). Ленин, выписывая эту формулировку Гегеля, отмечает на полях: «общие законы движения мира и мышления» (Ленин, «Философские тетради», М. 1936, стр. 170). То же самое отмечает и Энгельс, усматривая великую заслугу диалектики Гегеля в том, что она показала наличие одних и тех же законов в трех различных сферах: в природе, истории и мышлении (см. примечания к «Анти-Дюрингу»). Эти общие законы движения мира и мышления и составляют подлинное содержание «Логики» Гегеля. Отсюда и получается (как говорит Ленин), что «в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. «Противоречиво», но факт!» (Ленин, «Философские тетради», стр. 225). Конечно, для того чтобы усмотреть и понять этот факт, необходимо предварительно очистить гегелевскую логику от обволакивающей ее «мистики идей», поповщины, остатков формализма, пустой игры в диалектику и так далее.
Этот переход от абсолютной идеи к природе имеет у Гегеля две стороны: 1) мистическую или теологическую и 2) рациональную. Мистической стороны этого перехода Энгельс касается в «Людвиге Фейербахе», говоря, что у Гегеля «сотворение мира принимает еще гораздо более несуразный и невозможный вид, чем в христианстве» (вспомним, что сам Гегель определяет содержание логики как «изображение Бога, каков он есть в своей вечной сущности до сотворения природы и конечного духа», – т. I «Науки логики», стр. 28; цитата из Энгельса взята по немецкому изданию «Л. Фейербаха», Москва 1932, стр. 28). Рациональную сторону перехода от идеи к природе отмечает в своем «Конспекте» Ленин. Выписав гегелевскую фразу: «А именно… есть природа», Ленин замечает: «Эта фраза на последней, [213]-й странице «Логики» архизамечательна. Переход логической идеи к природе. Рукой подать к материализму. Прав был Энгельс, что система Гегеля – перевернутый материализм» (Ленин, «Философские тетради», М. 1936, стр. 224). С этим указанием Ленина интересно сопоставить замечания Маркса в его «Экономическо-философских рукописях 1844 года». Маркс пишет: Абсолютная идея, как результат всей логики Гегеля, «в свою очередь, снимает самое себя, если только она не хочет снова проделать сначала весь процесс абстракции и удовольствоваться тем, чтобы быть тотальностью всех абстракций или постигающей себя абстракцией. Но абстракция, постигающая себя как абстракцию, знает, что она есть ничто: она должна отказаться от себя, отказаться от абстракции, и, таким образом, она приходит к такой сущности, которая есть ее прямая противоположность, – к природе. Вся логика представляет собой, стало быть, доказательство того, что абстрактное мышление, рассматриваемое само по себе (оторвано от действительного духа и от действительной природы), есть ничто, что абсолютная идея, взятая сама по себе (как нечто самостоятельное по отношению к природе и духу), есть ничто и что только природа есть нечто» (Marx – Engels, Gesamtausgabe, hrsg. v. Adoratskij, Erste Abteilung, Bd. III, Berlin 1932, S. 168–169).
Имеется в виду «Философия духа» как третья часть гегелевской системы.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу