Я эту книжку читаю слишком долго. Люблю Грина, но он, по-моему, бывает занудным. То все бежит у него, искрится даже, все так знакомо, так лично, а то – тягомотина какая-то англо-саксонская, пустой чай с сухим молоком в файв-о-клок. И опять побежал. Между прочим, в детстве Грэм Грин, обиженный одноклассниками в привилегированной школе, несколько раз пытался свести счеты с жизнью.
Может быть, это подтолкнуло грамотную Паню к своему роковому решению?
Но Грэм выжил и даже Оксфорд окончил, да еще в разведке служил, Интеллидженс Сервис. Умная Служба, называется. Вот как! Это мне близко.
Так что Паня? Она тоже предпочла тяжелую жизнь легкой смерти? И что для нее было легким, а что тяжелым?
Вот так я фантазировал и читал Грэм Грина в метро, а записку бережно хранил дома. Не каждый день ведь можно добыть такой автограф.
Напротив меня сидела женщина лет сорока или чуть больше, в растянутом зеленом свитере и в заношенных джинсах с белыми потертостями на коленях и бедрах. Я увидел ее сразу, как только зашел в вагон – хороша, хоть вид у нее потрепанный, правда, чуть меньше, чем у ее одежды. Крупная грудь, которую даже растянутый свитер скрыть не в состоянии, крутые, стройные бедра, росточка, видимо, средненького. Шатенка несколько в рыжину, серые, злые, глубокие глаза, прямой нос с чуть великоватыми крыльями ноздрей и подбородочек с глубокой мужской ямочкой. Губы изящной формы, контрастно очерчены, как нарисованы.
Я разглядывал ее, подняв высоко книгу и не без удовольствия наблюдая за ней поверх обреза. Мне всегда нравились такие милые неряхи – в них есть что-то от первозданного греха. От них остро пахнет вожделением, даже если они сейчас промыты. Неряшливость – их фирменный стиль. От неумелого или наплевательского макияжа до стоптанных штиблет. Вся их ценность – под одеждой. Сочная, притягивающая. У меня к ним почти животное чувство. Как у зверя на запах, понятный лишь одному ему.
Она свела почти невидимые, светлые бровки и теперь буравила меня серыми глазищами. Зло смотрела. Мне показалось, как будто с презрением. Еще бы! Я уже стар даже для нее.
До конечной остановки остался один длиннющий перегон, за который я успевал обычно прочитать страниц семь. Вагон опустел на предыдущей станции. Остались лишь мы вдвоем.
Она решительно поднялась и нахально села рядом со мной.
– Как вам книжка? Нравится? – она спросила это, глядя на меня в упор, прищурясь.
– Нравится, – ответил я, – Местами.
– Какими местами?
– Понятными.
– А что тут непонятного?
– Их привычки… Не люблю чужих привычек.
Она усмехнулась.
– Откуда у вас этот том?
– Купил.
– Где купил?
– На развале.
– У Большого?
– У Большого.
– Когда?
– С неделю назад.
– Серенький такой типчик продал? Да?
– Не запомнил. Невзрачный какой-то. Но цвет не запомнил – может быть, серенький, может быть, красненький, а может и голубенький. Сейчас все может быть, особенно, у Большого. А что?
– Это мой брат. Он книжками там торгует по праздникам. А в будни таскается с ними на Арбат. Он – серенький. И не голубенький. Немножко красненький. Это от нищеты духовной.
– Зачем вы меня об этом спросили?
– Это моя книга. Я ее узнала. Посмотрите, на десятой странице в уголке поставлен восклицательный знак. Я так свои книжки мечу.
– Вы – Паня? – я вдруг заволновался, быстро заглянув на десятую страничку и тут же обнаружив незамеченный мною раньше восклицательный знак.
– Нашли записку?
– Нашел. А вы меня что, выслеживали, Паня? Хорошо хоть живы, слава богу! А то я уж думал…
– Вы болтун!
– Почему болтун?
– Потому что в четырех коротких фразах задали сразу несколько вопросов. Это свойство болтуна.
– Ну, спасибо! Уважили.
– Ага.
– Ну так вы Паня?
– Ни в коей мере. Я – Панина дочь.
– А Паня? Она жива?
– А что с ней сделается? Такие закладки как в этой книжке у нас еще в пяти, не меньше.
– Так это у нее такая привычка? Прощаться и никого не винить?
– Она дура. Образованная старая дура. Неудавшаяся поэтесса. Ни одной книжки не издано.
– А вы кто?
– Я ее дочь, и поэтому согласно генетике тоже дура.
– А меня зовут Антон.
– Энтони? Как героя Грэма Грина?
– Почти. Но он Энтони, а я всего лишь Антон.
– Ответить на другие вопросы?
– Сначала имя.
– Эдит.
– Что?
– Эдит. А вы думали, я вам сказала – «иди ты»? – она зло рассмеялась и прищурилась.
– Так и подумал.
– Это меня Паня так назвала. Разве может умная мать в СССР живого ребенка Эдитой назвать?
Читать дальше
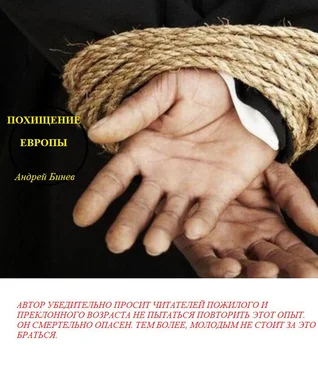





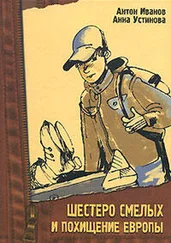

![Александр Михайловский - Похищение Европы [СИ litres]](/books/405294/aleksandr-mihajlovskij-pohichenie-evropy-si-litres-thumb.webp)



