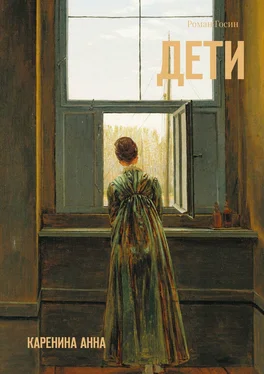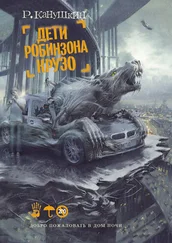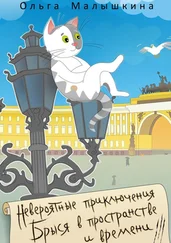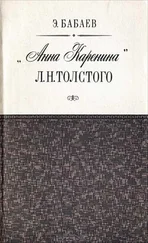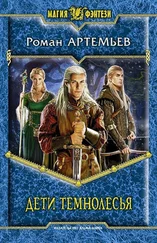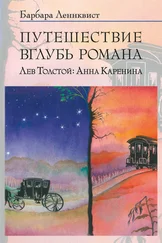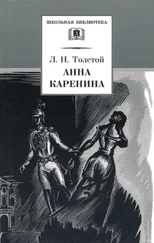По Военно-судебному уставу военный суд в мирное время рассматривал дела лишь в отношении военнослужащих и лиц, приравненных к ним, но в последующем их подсудность неизменно расширялась. Генерал-губернаторам было дано право объявлять в губерниях военное положение, и, как следствие дела, их территории переходили в ведение Военно-судебного ведомства.
Начало целой череде террористических актов положило неудачное покушение Дмитрия Каракозова на российского императора Александра II. Впоследствии на императора было совершено ещё несколько покушений. Затем, после покушения дочери отставного капитана Российской армии Веры Засулич на жизнь петербургского градоначальника Трепова, был принят закон о военном суде над гражданскими лицами. Начиная с этой даты, преступления, связанные с нападением на всех военных и полицейских, коль скоро нападения эти сопровождались убийством, нанесением ран, увечий, тяжких побоев и всяким участием в вооруженном сопротивлении власти, передавались в ведение военных судов.
Сергей Каренин продолжал с увлечением узнавать новое о своей стране и её гражданах, об отчаянных революционерах и мотивах их терактов, о грозных, но справедливых военных генералах, о процессе приведения приговоров в действие.
Начиная с окончания русско-турецкой войны на Кавказе военно-дипломатическая карьера графа Алексея Кирилловича Вронского пошла в гору. Ещё в начале XIX века практику официального обмена постоянными военно-дипломатическими атташе, не входящими в состав посольств и миссий, осуществили Россия и Франция, обменявшись личными адъютантами императоров (генерал-адъютантом и флигель-адъютантом).
Постоянная служба военных атташе была учреждена по указанию военного министра России Барклая-де-Толли. За рубеж были направлены первые постоянные армейские и морские офицеры в чине не ниже полковника или капитана первого ранга. Основной задачей военных атташе являлось ведение агентурной и разведывательной работы в государствах пребывания. Получение через своих агентов важных секретных сведений о вооружённых силах противников и союзников было поставлено на высокую профессиональную основу. Российская империя имела своих агентов в главных штабах Берлина, Парижа, Лондона, Вены, Рима и Константинополя. Все получаемые от них сведения о вооружённых силах государств сосредоточивались в особом разведывательном бюро и в военно-учёном комитете главного штаба армии России.
Служба военных атташе по вербовке агентов и получения необходимых сведений была исключительно трудной и напряжённой. Она требовала большого жизненного опыта, профессиональных знаний и личных качеств. На протяжении десяти лет военно-дипломатической службы граф Вронский безупречно выполнял свои обязанности в особом разведывательном бюро в военно-учёном комитете главного штаба, и в звании генерал-майора кавалерии был назначен главным военным атташе России в Вене. На его погонах золотом был вышит вензель императора Александра III.
Семья Вронского выросла, родилось ещё двое детей – сын Кирилл и дочь Николина, которую родители звали Никой. Финансовое положение упрочилось. Тут нужно отдать должное баронессе Вронской-Шильтон. Она вела все семейно-хозяйственные дела.
Полина Николаевна предложила мужу обменять все сто процентов акции российской компании «Клинские Нивы», выпускавшее пиво с тем же названием, на десятипроцентный пай в товариществе Шустовых. Узнав все подробности дела, придуманного Полиной Николаевной, он полностью их одобрил и доверил ей осуществление этой сделки.
Род купцов Шустовых ведёт свою купеческую родословную со времён Петра I, когда они начали заниматься соляным промыслом. Полина Николаевна была знакома с купцом Николаем Шустовым. Он жил в Москве, где и располагались его предприятия. На рубеже XIX – XX веков реклама шустовской продукции буквально заполоняла российскую прессу, представляя во всей красе ассортимент напитков. Сочинялись песни и слагались оды, прославлявшие разнообразные настойки и наливки, коньяки и водки под названиями «Московская», «Старка», «Перцовая», «Зверобой», «Плясовая», «Похмельная». Шустовы нанимали студентов, ходивших по кабакам во всей России и требующих «Шустовскую» к столу, не называя никак иначе их водки.
Николай Николаевич приобрел коньячный завод у Нерсеса Таиряна в Армении в Эриванской крепости и преобразовал его в Ереванский коньячный завод. Младший брат Николая Николаевича, Василий, был отправлен во Францию, откуда он привёз рецептуру и технологические карты производства французских коньяков. В тот же год братья выкупили акционерное общество черноморского виноделия. Образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку и получили Гранд-при. Они стали единственными не французскими виноделами, получившими право печати слова «cognac» на этикетках, несмотря на то, что их коньячный напиток, в соответствии с правилами, был больше похож на бренди.
Читать дальше