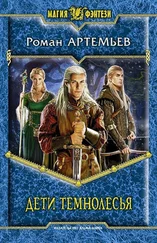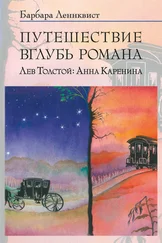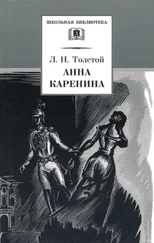– Ну пущай, Селифан Евлампыч, пущай… Я только вот о чём – с чего они спят-то так долго?
– А с того и почивают, что князья. И потом женский быт. В женском быту завсегда, брат, спится крепче. Кабыть работа…. А ты думал – нет? Вот вчерась княгиня с визитами ездили – раз; перепрягли лошадей, на Морскую к французихе поехали – два. Оттедова, Господи благослови, в приют на Васильевский остров – три. Из приюта за молодым князем Юрием Константиновичем – четыре. А вечером в синхфоническую собраню, на музыку. Вот и понимай, деревенщина, какова княжеска работа.
Дворник хотел что-то сказать, но только крякнул, поплевал на руки и с остервенением стал действовать метлою. В это время из подъезда выбежала молоденькая горничная.
– А! Фрося Митревна! Наше вам. На погоду взглянуть? – спросил у неё швейцар Селифан, игриво осклабляясь.
– С добрем утречком, Селифан Евлампыч! У-у, снежище-то какой! – Горничная вздрогнула плечами и спрятала руки под фартук. – Силиафан Евлампыч! Барышня приказали, мол, приедет мадам певица, не принимать, им сёдни нездоровится.
– Что так? Аль намедни в санях простудимшись?
– А кто их знает! Встали рано, читают в постели письмо. Кажись, шестой раз читают. Вчерась утром почтарь привозил. Сказал, с Парижа. А щас они говорят, скажи, говорят, внизу, говорят, что французской певице приёму нынче нет. Плачут.
– Ладно, – махнул рукой Селифан. – Княгиня как? Вчерась поздно вернулись. Почивают ишо иль кладут пасьянс?
– Почивают, почивают ишо. Григорий Коскентиныч только кофеи откушали, должно в казармы поедут, халат переодели, щас спустятся. Юрия Коскентиныча немец будить пошёл. То-то хлопоты их будить! То канделябром в немца пульнут – страсть! А то и брыкаться начнут, беда! Бить немца ногами затеют, но тот хваткий. Иногда думаю, как это он ишо Юрию Коскентинычу ноги все не повыдёргивал?
– Селифан! Селифан! – повелительно прозвучал наверху лестницы тот благородный княжеский голос с приятным и важным рокотанием в горле, о котором швейцар только что рассказывал дворнику.
Он торопливо отворил двери подъезда, вошёл скользящею и беззвучною походкой в сени, вытянулся, сняв фуражку. Горничная, повиливая всем корпусом и не вынимая рук из-под фартука, побежала наверх. Навстречу ей по позолоченным перилам лестницы быстро спускался плотный, белотелый, чернобровый молодой человек с блестящими глазами навыкате, в синей уланке, в кавалерийских рейтузах и сапогах со шпорами. Он ловко катился по перилам, подняв кверху руки. На площадке лестницы присвистнул и с гиком спрыгнул с перил. Щёлкнул каблуками, закричал притворно строгим голосом: «Эта-тэ, что несёшь под фартуком?», схватив за руку горничную и ущипнув её. Та взвизгнула, вырвалась и убежала с румянцем стыда и счастья на лице. Он молодецки шевельнул плечом, засунул руки в карманы рейтуз и, напевая из оперетты «Дочь Мадам Анго» Шарля Лекока «Я был влюблён», сошёл вниз к дверям. На лице швейцара заиграла улыбка.
– Снежищу-то по колено, Селифан? – сказал молодой человек, смотря выше швейцара.
– Так точно, вашество, и всего одиннадцать с капелькой градусов.
– Скажи Илюшке, чтоб Летуна заложил, и попроворнее.
– Слушаю-с, вашество. В бегунцы синие прикажете?
– Да-да, пусть в эти бегунцы заложит.
– Слушаю-с, щас, мигом!
Молодой человек ещё хотел что-то прибавить, но вместо этого промычал, значительно пошевелил выдвинутою нижнею губой и, продолжая напевать, подошёл к зеркальным стёклам подъезда. За ними виднелся рыжий малый с метлою.
– А!? Кто такой? – спросил он.
– Младший дворник, вашество, с неделю тому нанят, – и швейцар улыбнулся своему разговору с дворником.
– Ты что смеёшься, а?
– Деревенщина, вашество, всё по купцам живал. Удивляется.
– Чему удивляется?
– Удивительно ему, как живут князья и как купцы. Мужик!
Барчук вдруг схватил Селифана за пуговицу полушубка. Он с оживлённым, наивно-детским выражением на лице сказал своим поставленным голосом, приглаживая волосы:
– Я не понимаю, Селифан, отчего мы до сих пор не берём людей из Анненского? Почему нанимаем от разных купцов и тому подобных, а? Вот я понимаю тебя. Ты из гусарского полку, вахмистр при конских хвостах и тому подобное. Ты знаешь, скоро выйду в Императорский личный лейб-гусарский взвод, а вокруг никого из своих! Только из Анненского у нас Илюшка, и больше никого. Горничные у маман немки и французихи, у сестры Фроська эта, деревня рязанская, – он кивнул подбородком в сторону лестницы. – А я люблю, чтоб все были наши. Понимаешь? Это настоящий княжеский дом, когда собственные люди. Это делает тон. Вон как у графа Толстого в Ясной. Ты знаешь нашего анненского повара? Он пироги придумал с яблоками, ими графа Толстого каждый день потчуют.
Читать дальше