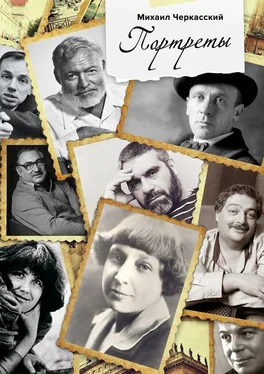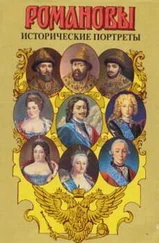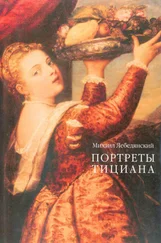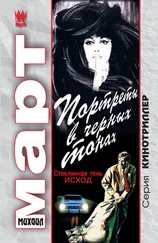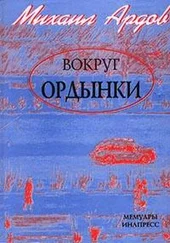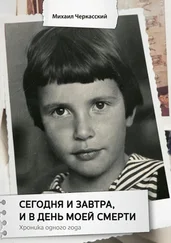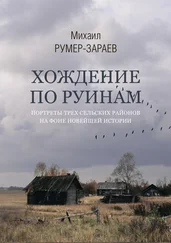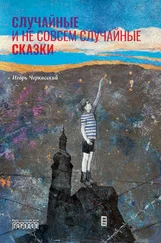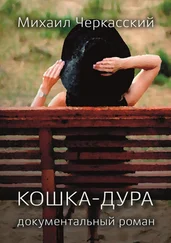Ну, вот пожалуйста, скромный пример – тот рассказ, за который я и был принят в литобъединение. Однажды в Публичке ко мне подошла знакомая, уже отметившаяся несколькими коротенькими рецензиями. Характер у этой скучной женщины был октябрьский – когда в иной день с невидного неба сочится мелкая морось. Есть такие женщины: стоит им лишь даже летом войти в комнату, как все мухи незамедлительно впадают в зимнюю спячку. Позднее она стала узнаваемым (в узких ленинградских кругах) критиком, снабжала сочинения некоторых малозаметных писателей предисловиями, и сама издала две или три критические книжки.
Увидев у меня на столе машинописный рассказик, попросила его посмотреть. И вскоре вернула с деликатными карандашными скобками: ими она исключала во многих и многих фразах на каждой странице лишние слова. Я не поленился и перепечатал то, что получилось после ее редакторской правки. Это был совершенно другой рассказ, за который меня бы и на порог литобъединения не пустили. А ведь ничего, вроде бы, не изменилось: все осталось. И все пропало. А собственно говоря, что? Да ничего, кроме тональности, или, если угодно, музыки, которая отличает литературное изложение событий от бытового. Или, если забыть о скромности, ремесленничество от мастерства.
Со временем я понял, что самым лучшим редактором (для себя) был я сам. Но при двух условиях: 1. После критики, которую принял. 2. По прошествии нескольких лет, когда, давно уж остыв, мог взглянуть на то, что было написано, чужими глазами.
Года четыре прошло. В рукописи о дочери я давно уже перевалил за экватор, и вдруг меня снова швырнуло в кювет. И там за месяц с небольшим я накатал непонятную повесть. И это было второе диво, потому что, когда бы она ни попалась мне на глаза – рука моя не тянулась ни к ножницам, ни к перу. Значит, так и надо писать – с остервенелым желанием поскорее избавиться от присосавшихся слов. Не знаю. Наверно, кочевникам, подобным мне – так, а другим, как они сами сочтут нужным.
Вот послушайте, что говорил Довлатов: «Я не совсем понимаю, зачем редактор нужен вообще. Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет». Все правильно… для Довлатова. Или подобных ему. Счастлив их бог, что они родились сами с усами. Да и не о чем здесь толковать: ни один редактор никогда не напишет за писателя книжку. Иначе он бы сам стал писателем. И задача редактора проста, «как три копейки»: помочь автору улучшить его вещь.
На титульном листе той неожиданной повести стояло: «Редькин и другие». Не новое, безликое и отнюдь не заманчивое название. Но удивительно точное и универсальное. Пожалуйста, напишите: «Форд и другие» – и кто же возьмется это оспорить. Можно даже по-разному, скажем: «Биде и другие» – и этого тоже не разъять ни логикой, ни топором. А еще ведь в таких названиях затаилась вечная философическая мысль об одиночестве.
Только все это не помогло ни «Хемингуэю», ни «Редькину». Не представляя, как жить дальше, они залезли в стол и безропотно
замерли там. Но года через три оседлая жизнь все же надоела «Редькину», и он, покряхтев, отправился в журнал «Звезда». И вскоре вернулся немножко смущенный, потому что на заднице у него белела заплатка: «Уважаемый Икс-Игрекович, ваша повесть высоко художественна, но, к великому сожалению, идет вразрез с социально-политической линией нашего журнала». Это было забавно, потому что ничего такого, чтобы шло вразрез, и в помине не было. Если, конечно, не считать нескольких скромных мазков о буднях советской медицины.
«Хемингуэю» тоже захотелось выглянуть в свет, но куда? Даже в самый толстый журнал было не пролезть, и поэтому оставались одни лишь издательства. Послал. Вернули: для книги рукопись слишком мала. К тому времени на спор с приятелем я написал такое же большое эссе о Цветаевой и вообще о поэзии. Отправил обоих. Вернули: издательский план уже сверстан на пятилетку вперед.
И все-таки «Хемингуэй» вышел к людям. И не куда-нибудь, а в ящик , то есть, номерной, секретный институт. Проводила его туда одна женщина, знакомая по литовскому хутору. И вскоре вернула рукопись, да еще три переплетенных экземпляра, скопированных на ротопринте (ксероксов тогда еще не было). Вернула со словами: «Полинститута читало». Преувеличения иной раз так приятны бывают. Особенно если читает секретная особая часть.
Между тем время заставило меня перейти с пишущей машинки на компьютер. И раз уж книжка о дочери была издана за свой счет и частично разошлась по друзьям да знакомым, я решил отправить ее в библиотеку Максима Мошкова, благо он любезно согласился на это. А вот попросить втиснуть туда же два эссе – постеснялся. И отправил их в самиздат того же Мошкова, куда волен залечь каждый желающий, ибо это братское кладбище принимает любых графоманов.
Читать дальше