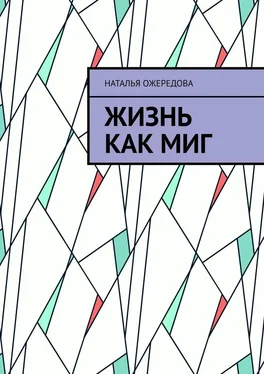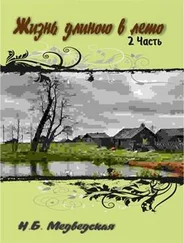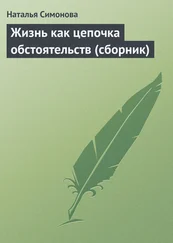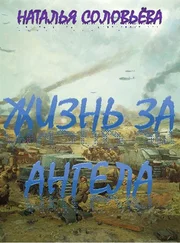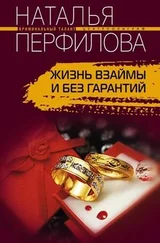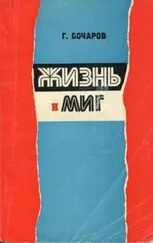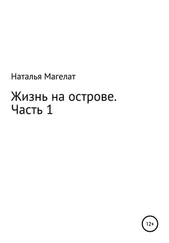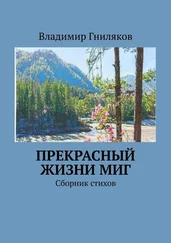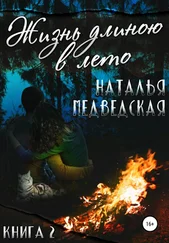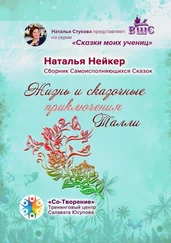В 1943 году война подобралась к их семье совсем близко.
Как-то утром, ещё до начала смены, Лизавету вызвал начальник эвакогоспиталя. В кабинете находился еще один мужчина, при одном только взгляде на которого у женщины мурашки побежали по спине и дохнуло холодом Колымы.
«Фронту нужны профессионалы. У тебя два варианта. Первый: детей в детдом, сама на фронт. Второй: с детьми в санитарный поезд. А вообще-то, есть третий вариант – догадайся какой?» Какой – она поняла сразу! Лагерь! Второй раз оттуда она не выберется.
Мозг работал быстро и чётко. Детей в детдом? А если она погибнет на фронте? Кому они будут нужны? А если и выживет, найдет ли она их? А в санитарном поезде уж если и погибнут, то все вместе.
Взгляда Лизавета не отвела и через секунду отчеканила: «Санитарный поезд».
Уже через сутки ее с детьми в компании с другими женщинами-медиками отправили в Челябинск, где формировался санитарный поезд. Она оказалась не одна с детьми, были ещё товарки по несчастью. Коллектив санитарного поезда был замечательный: дружный, работящий. В ящиках под вагонами держали кур – были и яйцо свое, и мясо. На крышах вагонов выращивали зелень. Пели песни по вечерам, мотали бинты, намывали вагоны и опять пели. Стучали колеса, мелькали деревья и домики за окнами. Вдруг взрывы, пламя, крики – состав бомбили немецкие самолеты. Так Лизавета поняла, что они уже на фронте или в прифронтовой полосе.
Сколько потом за два неполных года было таких бомбежек, обстрелов. А сколько раненых прошло через ее руки, она и вспомнить не могла.
А дети? Ребятню разместили в отдельном купе: были здесь и груднички, и дошколята, и дети постарше. Матери «забывали» о них порой на сутки. Ребята затихали в своем купе, когда военные действия шли совсем рядом. Окошко им закрывали досками. Свечка горела в прикрученной к стене гильзе. А они молчали, не требовали ни воды, ни еды, не просились на горшок. При резких остановках поезда детки падали, случалось, ломали руки, ноги, но гипс им накладывали в последнюю очередь, когда оказывалась помощь раненым и заканчивались операции.
В детском купе оставались только малыши, а те, кто постарше, шли помогать матерям.
Мужчин в команде санитарного поезда практически и не было. Зато были раненые бойцы, изголодавшиеся по семьям. Они несли деткам сахар, шоколад, леденцы, смотрели на них мокрыми от слёз глазами. И неважно, были они крестьянами или рабочими, учителями или инженерами… Все они были уставшими от войны мужиками, и во взгляде их была тоска. Жуткая тоска по дому, по детям, по семье.
Вот среди этих раненых, искалеченных войной людей Лизавета встретила его – ленинградца Василия. Того человека, который пробудил в ней женщину.
Первый раз она увидела его на операционном столе. «Жаль мужика, такой молодой, а без руки, да еще и правой», – думала Лизавета, ассистируя хирургу.
А он увидел ее впервые на перевязке и не смог скрыть восхищения: «Какая красавица!» И как-то так стало получаться, что постоянно стали они встречаться… правда, пока только глазами – в вагоне, в перевязочной, на остановках. А когда Василий узнал, что Лизавета молодая вдова да что у нее два пацаненка, встречи стали преднамеренными. И тогда в своих мыслях к слову «красавица» он стал добавлять – «Моя!». Она не была против. Наконец-то Лиза поняла, что такое любить, а не только быть любимой. Она старалась наверстать все, что было упущено за эти годы. Покойный муж постепенно растворялся в ее воспоминаниях, а вскоре и совсем ушел из ее жизни.
Василий остался работать в поезде. Инвалидом назвать его было невозможно – одной рукой он делал все. Ему мог позавидовать любой здоровый мужчина.
Так все вместе, вчетвером, они и закончили войну в 1945 году в Кенигсберге.
Вернулась Лизавета в поселок с полноценной семьей. Устроилась работать в больницу фельдшером. Несмотря на все трудности послевоенной поры, для Лизаветы это были лучшие годы. Муж. Мальчишки. Работа. Дом. Что надо еще женщине, чтобы чувствовать себя счастливой? Лизавета светилась от счастья.
Работая в районной больнице, Лизавета часто ездила (или ходила пешком) мимо кладбища, на котором был похоронен Павел. Но сердце ни разу не екнуло, только взгляд безразлично скользил по елочкам: «А Юркина-то побольше будет!» И действительно, Юркина елочка, посаженная на могиле отца, росла быстрее Витькиной. Да и мальчишка с годами все больше походил на отца, а вот Виктор – нет. Он становился копией покойного деда Павла. Та же поступь, осанка, речь. Да и хозяйственный такой же. Не то что Юрка.
Читать дальше