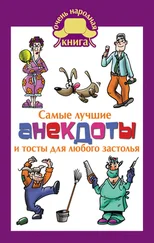Дом на Сен-Клод в квартале Итон так и не стал Эмме родным. Она никогда не ценила этот богатый особняк с благоухающим садом и прудом на заднем дворе. Сад… А ведь ещё недавно, после пяти она и Фрэнк часами проводили на открытой веранде в удобных стульях с наклоненными спинками в тихом, но приятном молчании. О чём он думал в ту минуту наедине с ней – она не ведала. Да и напрашиваться на сокровенное не могла, считая это открытой фамильярностью.
Но Фрэнк располагал иными представлениями о семейном счастье. Ему казалось, у супругов не должно быть тайн, и считаться с личным пространством, на которое Эмма претендовала в душе, не входило в круг его обособленного мировоззрения.
Недолго думая, он спрашивал её о том. Она робко смеялась, пряча поглубже всякие мысли, порой такие бесполезные, созданные лишь смысловой цепочкой интеллектуальной последовательности, что говорить о них не пристало. В голове они имели какой-то малейший толк, но вслух прозвучали бы абсурдом. Пожалуй, за годы, отведенные человеку, его разум лишь треть посвящает свой интеллект существенному; остальное время мозг работает на износ пустословия. И Эмма догадывалась, что Фрэнк в силу разнообразия природы, которая создала непохожих друг на друга людей, не сумеет её понять.
Пока они распивали чай на заднем дворе, Эмме нравилось разглядывать зелёные рощицы у пруда и наблюдать, как ветер щепетильно перебирает листья; любила следить, как по водной глади бежит мелкая рябь, и с двух сторон доносится кваканье лягушек, не напрягающее слух; пыталась угадать на сколько миль продвинулось солнце, чтобы спрятать пламенную теплоту от сторонних глаз на горизонте. Её пленил лазурный небосвод, а белые, устремляющиеся вперёд облака напоминали живые улицы Парижа, где иностранные туристы и французы мельтешат по фешенебельным коммерческим точкам. И пока она отсутствовала мыслями, проявляя интерес к природе, Фрэнк в который раз удостаивал её вопросом:
«О чем ты постоянно думаешь?»
Эмма не хотела сознаваться, но столько раз озвученный вопрос Фрэнка начинал надоедать. Она подумала, что, удовлетворив его чувство познания, Фрэнк не станет больше допытываться. Она набралась храбрости открыться ему.
«Я думаю о небе. Почему зимним вечером, когда луна оставляет его в уединении и ничто не освещает бесконечный свод, оно смотрится, как чёрный бархат, где с одной стороны по нему льется розовый отсвет, точно зефирная пастель, а с другой – появляется светло-голубой оттенок… Думаю, зачем люди учат языки друг друга, а не выберут один единый для простоты общения. Представь себе француза с чистым английским произношением, который не сыплет на общество приторность французского красноречия.»
Эмма рассмеялась и поглядела на Фрэнка. Сдвинув брови в легком недоумении, он глядел то в сторону, то на Эмму растерянными, слегка суженными глазами. Молчание затянулось на долгие минуты, и та тишина была ей невыносима. Пожалев о сердечной откровенности, она оторвала взор от мужа, а её руки никак не находили себе места. Она перебирала пальцами, в надежде услышать от Фрэнка слова понимания. Но разве есть способ понять другого человека, если внутри нет налаженных механизмов для подобной цели? Да и, услышав собственные мысли вслух, они показались ей до безобразного глупыми. Она покраснела и закусила губу, когда Фрэнк всё же сказал, осторожно улыбаясь уголками рта:
«Надеюсь, ты это не всерьез, милая? Забавно, как ты умеешь шутить!»
Эмма прыснула наигранной улыбкой. Обида просочилась в её задетую душу, а разум сосредоточился на выводе, как далеки их вселенные от общего мира, где есть камин семейного очага. И вместо того, чтобы объединять, согревая одним теплом единения, этот очаг топил лёд в одном и жарил до боли другого.
Вспоминая те неприятные минуты, Эмма вошла в спальню, где господствовал стиль – не далеко ушедший от модерна, но опережающий рококо – и подошла к столику, где утром наносила лёгкий грим. Без него она считала себя слишком юной деревенской простушкой, пока здравость в её самомнение не внёс портной Ильяс Макинтош – шотландский мастер платья с еврейскими корнями. Увидев, как Эмма тщательно припудривается, подчеркивая глаза и брови, он с глубоким вздохом произнёс:
– Новенькие платья мечтают о заплате, которая добавит внешний шик. Поношенные платья годятся лишь в заплату, а хочется им старую на новую материю сменить.
Теперь она уверенно поглядела на себя в зеркало. К счастью, не смотря на два ушедших года, она по-прежнему видела в чертах своего маленького личика притягательные чары. Губы алели пионом; щёки пышали свежестью росы; глаза завлекали своей синей глубиной и переливались уже не счастливым предвкушением увлекательных перипетий, как дома у миссис Морган – теперь в них значился страх. Что скажет Фрэнк, и каким будет его лицо, когда она разрушит их семью? Не может быть, что останется спокойным! Скорее всего сперва её обдуманная речь оглушит его, как разрыв бомбы. Он замрёт на месте и переспросит, не ослышался ли. У неё зашлось сердце от вероятности, что придётся снова повторить ужасные слова принятого решения. И тогда он, скорее всего, придёт в ярость, граничащую с безумием, подлетит к ней и начнёт трясти, заставляя отказаться от дурных помыслов. Но Эмма непреклонна! Даже матери – женщине крепкого нрава и слова, не удалось повлиять на её своеволие. А что может сделать мужчина, ставший для неё таким чужим и далёким?
Читать дальше