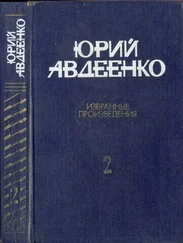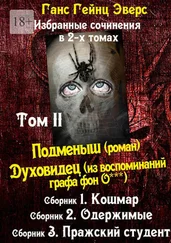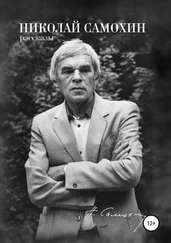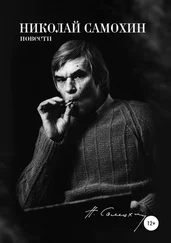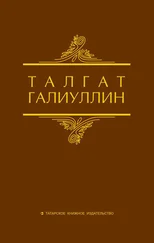Обо всём этом любили рассказывать деревенские аксакалы приезжему гостю. И добавляли, что ещё не так давно, всего лишь в 50-е годы, обычными вилами вытаскивали из речки сорожку, щуку, краснопёрку. Речная рыба спасала сельчан от голодной смерти в годы войны. Вкус этих деликатесных рыб до сих пор сохраняется в памяти. Как говорит Марсель Галиев, «вкусовая память» не стирается. Но потерь, к сожалению, много: лес вырублен, речки обмелели, ягодные поляны приказали долго жить… Грустно становится на душе от этих воспоминаний. По судьбе таких вот деревень, как Кичкальня, разместившихся в лесной глуши, можно судить, куда идёт человечество. Типичная история таких деревень ещё не прослежена, не описана в нашей литературе, нет ни воспоминаний, ни письменных памятников, а ведь истинная история татарского народа – это история его деревень. В судьбе любого села, как в зеркале, отражается всё пережитое народом, духовное состояние нации.
Это и понятно: во все времена победители старались в первую очередь уничтожить большие города, как правило, являющиеся центрами культуры, передовой мысли и различных волнений. Народы, которые не попали под вражеские клинки, выжили, сохранили свою землю, другие подверглись жёстким гонениям, выселялись со своих обжитых мест. Библиотеки, письменные памятники, печатные издания уничтожались. Их удобные для существования места заселялись захватчиками. Наши города: Булгар, Биляр, Казань, появившиеся позднее Бугульма, Чистополь, Елабуга – горькие плоды такой политики, свидетели нашего печального опыта. В первых двух городах, давших название двум самостоятельным государствам, не осталось ни одного человека татаро-булгарской национальности. Да и в окрестности Казани только в последние века стали поселяться наиболее предприимчивые представители татарской нации. Но и тогда злопамятные коммунисты всячески препятствовали хотя бы численному превосходству татар в республике, названной «татарской», соорудили военные заводы, открыли военные училища, в многоэтажных домах продавали квартиры приезжим с Камчатки, с Сахалина…
Нация, не имеющая больших городов, не может быть признана в мире, не может выступать в парламентах. Уничтожение густонаселённых военно-культурных центров – самый надёжный способ для вымывания памяти народа, для искажения его истории.
Возможно, на границе XVI–XVII веков деревня с чудным именем Кичкальня и не появилась бы на свете, если бы в 1552 году не пало Казанское ханство, по всей земле не началось бы повальное насильственное крещение. Кто же по своей воле, покинув обжитые места, переселится в лесную чащобу, совсем не пригодную для земледелия, и согласится, хотя бы на первых порах, как барсук, жить в землянке. Да, судьба играет человеком.
Если вникнуть в содержание передаваемых из уст в уста преданий, повнимательнее присмотреться к надписям на бережно сохраняемых сельчанами могильных плитах, к генеалогическому дереву некоторых именитых семей, становится понятным, что на место сегодняшней Кичкальни прибыли деловые, работящие семьи из Булгар, и особенно из деревни Узи, входящей в нынешний Алькеевский район.
Районная газета «Дуслык», издающаяся в Нурлате, так писала о прошлом Кичкальни: «Это место представляло собой единственную поляну в непроходимом густом лесу, буйно поросшую крапивой и лопухами. Первые поселенцы выкопали на склоне холма землянки, выкорчевали деревья, подготовив таким образом себе место для земледелия, скотоводства и пчеловодства. В основном здесь разводили коз и баранов» (1980. – 18 июня). На лесных тропинках встречались и сходились люди из разных местностей, говорящие на разных диалектах. Смешивалась кровь, богател язык. Хотя диалект моей родной деревни и содержит характерные для мишар «специфические» слова, но он мягче по произношению и ближе к литературному, чем, допустим, язык чистопольских татар. О том, что деревня имеет давнюю историю, свидетельствует тот факт, что возле неё археологи откопали в 60-х годах кольчуги и боевые топоры. Поскольку почва в здешних местах не очень годится для выращивания такого прихотливого зерна, как пшеница, то выращивали в основном рожь, лён, ячмень, подсолнух, занимались пчеловодством, рыболовством, охотой. В лесу полным-полно было волков и медведей. А уж такую мелочь, как заяц, лиса и белка, за живность-то не считали. Из поколения в поколение передавалась и дошла до наших дней красивая легенда.
Июль. Жаркий полдень. Солнце, как огромный раскалённый шар, висит прямо над головами жниц, сосредоточенно убирающих хлеб. Мужчин среди них нет, они все на гумне, молотят рожь. Вдруг из-за стога ржи появляется огромный бурый медведь, приближается к женщинам и останавливается на некотором расстоянии от них, не спеша напасть на кого-либо. Так и стоит, как обученный танцам, задрав вверх передние лапы. Хотя в его позе не ощущалось злого умысла, не похоже было, чтобы он собирался умыкнуть кого-то из красоток, среди женщин поднимается визг, крик, переполох, все бросаются врассыпную. Но, видимо, и медведи в кичкальнинских окрестностях были той же хитрой, мишарской породы. Ещё двое мохнатых заранее заблокировали женщинам все пути к отступлению. А тот первый хнычет, стонет, сердится, будто хочет что-то сказать, но объяснить не может. Наконец одна из женщин, то ли самая бойкая, то ли самая любопытная, любившая стрелять глазками по сторонам (это уж так и останется вековой тайной), бросает взгляд на ревущего медведя и видит, что в его лапу вонзилась острая дубовая заноза. Она поняла, что великан молит о помощи. Женщина, собрав всё своё мужество, подошла к медведю, погладила его по голове, вытащила занозу и перевязала рану своим головным платком (естественно, как любой крещёный татарин считает себя правнуком Бориса Годунова – царя, так каждый житель Кичкальни приводит неоспоримые доказательства своего родства с этой женщиной). На другой день этот медведь принёс своей спасительнице кадушку дикого мёда, выразив таким образом свою благодарность, уважение и восхищение.
Читать дальше
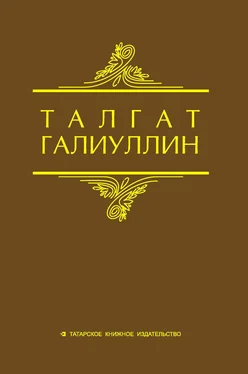
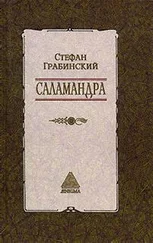
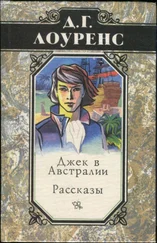
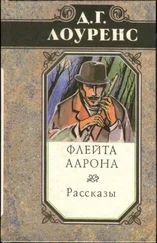
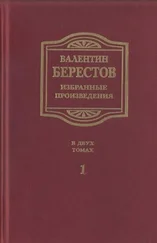
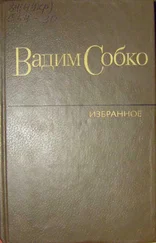
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)