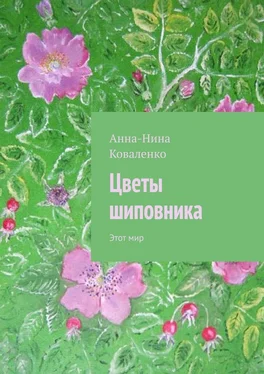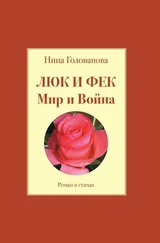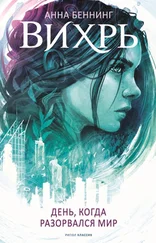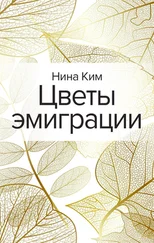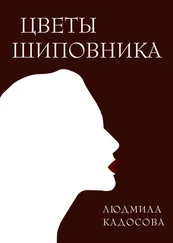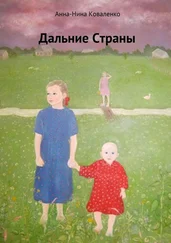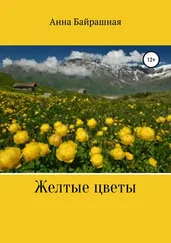Семнадцатого же марта родился великий русский художник-мистик Михаил Врубель…
Одно из ранних воспоминаний: мир вверх тормашками. Я на пригорке, широко расставив ноги, наклонилась и смотрю на мир между ног: получается мир вверх тормашками: внизу небо, на нём, то есть по нему – плавают птички вверх животом; над небом нависают колоски, зелёная трава и редкие цветочки, а дальше – сосульками деревья…
Я родилась в сибирской деревне Cидорёнково. Моя бабушка по матери – Анисья Михайловна, девичья фамилия Толоконникова, родом из-под Пензы, была старшей сестрой в семье, мать умерла рано, отец снова женился, всего родных и приёмных (сводных) детей было много, кажется, двенадцать. Бабушка говорила, что когда ей было 15—16 лет, она служила кухаркой в доме богатого татарина. Это, конечно, было в Пензе, а в Сибирь они – Толоконниковы – перебрались позже. Тут она встретила моего биологического дедушку Константина Михайловича Сидорова: нанялась работать у его семьи на сезонных работах, понравилась всем и ему, и вышла замуж. Они с Константином были абсолютные ровесники, то есть родились в один год, один месяц, один день – 7 января 1885г. У них даже отчества одинаковые – Михайлович и Михайловна. Откуда его предки, толком не знаю (возможно, с Дона), знаю, что все виденные мною его родственники были брюнетами и брюнетками с чёрными или ярко-синими глазами. В деревне, где я родилась, чуть ли не все были Сидоровы, даже и не родственники – возможно, им дали такую фамилию при какой-то регистрации, и сельчане, чтобы не путаться, различались по кличкам: Чирки – за ловкость в танцах, есть такая птичка, «Чирок»; Пашухины – от имени главы рода: Павел, или Пашуха; Цыганковы – за чернявость – кстати, родственники моего дедушки Константина; ДмитриАлександрычевы (понятно, от имени главы рода); Морковники – за морковь, высаживаемую в огромном объёме хозяином участка «Морковником» в расчете на профит от продажи; и т. п.
В 1918—20 г. г. Константин организовал партизанский отряд, который хотел добиться независимости Сибири – наивная идея. Это было смутное время в Сибири. Его поймали, пытали, казнили. Потом – переловили и убили весь отряд, и теперь они все лежат в братской могиле в городе Бoчаты. У меня есть, хранится мамин рассказ об этом, а также мною написан рассказ «Ночные голоса» со слов бабушки, и он же, то есть рассказ бабушки, войдёт (без эпиграфа) в мою повесть «Дальние Страны» как «Колыбельная».
После его гибели бабушка вышла замуж за Прокудина Поликарпа Сергеевича – моего приемного дедушку. Он относился ко мне как к родной внучке, называл «Голубка». Статный, кареглазый, истинный сибиряк, с густой шевелюрой и ослепительной улыбкой – как он сохранил такие зубы (все!), не понимаю, ведь он постоянно курил «самокрутки», табак сам выращивал… У него были также братья-сёстры, староверы, после установления советской власти и коллективизации его братья ушли в тайгу, а он остался и работал в колхозе пчеловодом, и бабушка ему помогала. Иногда, помню, приходили из тайги и останавливались на пару дней родственники со странными именами – Петропей, Фома… Среди его родных даже был Наполеон. Однажды по настоянию односельчан дедушку назначили председателем колхоза («Хватит с нас иногородних!»), но вскоре по анонимному доносу о его «вредительстве» (он приказал скосить на силос «зелёнку» – зелёный овёс, так как ожидались заморозки, овёс не мог созреть), арестовали и посадили. В моём рассказе «Девочка с глазами синими как море» из «Белой Лошади» есть достоверная картина его ареста, в чём я, ребёнок, винила тогда себя за вырванную мною в огороде морковку. Позже благодаря защите его освободили. Тогда он собрал все ульи и удалился с этой пасекой в тайгу, откуда лишь присылал продукцию, то есть мёд, колхозу. Там и умер.
Бабушка Анисья – изящная, сероглазая, была удивительно мягким, приветливым человеком. В избушке всегда хватало места для городских и местных гостей. И ещё, меня не перестаёт поражать, откуда она находила силы после тяжёлого трудового и хлопотливого дня, перед тем как заснуть, долго молиться в темноте, а потом подсаживаться ко мне и рассказывать удивительные истории и сказки. Она брала меня с собой на пасеку и в согру* (*сибирский мелколиственный лес) по ягоды, грибы ли, и по дороге объясняла названия и назначения встречающихся растений. Мы шли по согре – я отставала, оглядывалась назад, жадно фотографировала глазами картинки природы: берёзки, ромашки, душистый горошек, холмы, облака, ленточка реки вдалеке, и всё с одной недетской мыслью: «Надо это запомнить… Надо запомнить…» – как бы впитывая кожей законы светотеней. Бабушка приводила в чувство окриком: «Не отставай! Чо стала?»
Читать дальше