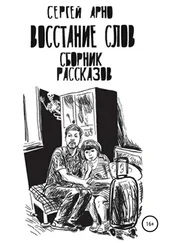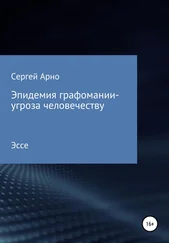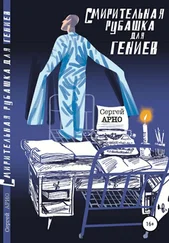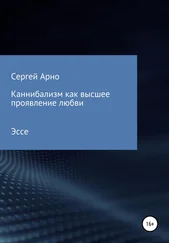Подобных квартир было большинство. Только четыре квартиры двора располагались в домах, не погруженных в землю. Заселены они были до предела…
Память перенесла меня от квартир Горлановского двора к их обитателям, людям, на мой взгляд, типичным для двадцатых, затем, тридцатых, да и сороковых годов тоже.
Это история, а историю забывать негоже.
Наш многонациональный двор составлял дружелюбный союз и являлся, по сути, микроскопической моделью Советского Союза, только с меньшим числом «республик»: в нашем дворе их было восемь, соответственно представителям восьми национальностей.
Жители двора, в основном, были тружениками, что в поте лица зарабатывали для семьи трудовую копейку. Имею в виду мужчин; женщины в двадцатые годы занимались домашним хозяйством: созданием «уюта» в своих полуподвалах, приготовлением пищи, воспитанием детей и, если оставалось свободное время, как и положено прекрасному полу – сплетнями. Только не пугайтесь несимпатичного названия этих своеобразных «последних известий» – ведь тогда еще не было ни радио, ни телевизора, который мне удалось посмотреть перед войной только раз, но за которым, я уверен, огромное будущее, без опытных сплетниц, что представляли собой своеобразное «справочное бюро», было бы и совсем «глухо» жить. Сплетницы были в почете, их угощали семечками.
4. СОСЕД
Каждый двор – это большая семья, в которой, как известно, «не без урода». Были уроды и в нашем дворе. Ну, например, наш ближайший сосед, украинец Иван.
Квартиры, нашу и Ивана, разделяла стена с дверью, заколоченной гвоздями и пропускающей звуки, вплоть до зевков. Когда сосед приходил домой во хмелю, а он приходил во хмелю ежедневно, жена старалась прошмыгнуть мимо него и выскочить во двор, чтобы пересидеть «бурю» у соседей. Но удавалось ей это редко. Была она старше мужа, рыхловата и рябовата. Сосед – пьяница и дебошир, а, кроме того, азартнейший игрок в «очко». На работах задерживался недолго – выгоняли за пьянство и прогулы. Когда случались просветы в пьянке, бывал неплохим мужем и отцом – у соседей рос сын. Но это – не часто, поэтому «особой приметой» соседки через стену были мигрирующие синяки под глазами.
Семья жила тем, что соседка с рассвета и дотемна стирала чужое белье. Белье ей давали охотно, потому что прачка она была отличная. Но сколько бы она не гнула «холку», над корытом, заработанных ею денег не хватало на жизнь. Может, и хватало бы, если бы муж не запускал в семейную кассу, дрожащую с похмелья лапу, и не опустошал бы ее до дна. Тогда жена брала сумку и отправлялась на базар за покупками. Ее улыбчивое доброе лицо внушало торговкам доверие. Именно оно и требовалось для того, чтобы, вбросив незаметно в сумку «покупку», ретироваться за спины покупателей.
Когда, случалось, ее хватали за руку, клялась и божилась, что расплатилась… Слышно было через дверь, как она рассказывала мужу, каким образом попал в сумку тот или иной продукт. Он хохотал и похваливал жену.
Не удивительно, что к пятнадцати годам их сын сел в тюрьму за кражу. Потом сел за повторную кражу. А перед войной вовсе пропал без вести.
5. КАМИЛЬ
Вспомнилось о циркаче из нашего двора, кумире пацанов, татарине Камиле.
В маленькой клетушке жила семья из трех человек: мужа, красивого мужчины лет тридцати, жены, красивой, доброй и веселой женщины лет двадцати пяти и их сына, упитанного бутуза лет пяти. Во дворе они поселились еще до революции. В одно недоброе утро соседи не увидели на лице этой женщины привычной приветливой улыбки, которая так ее красила. Вскоре выяснилось, что арестовали ее мужа за революционную деятельность. С месяц ходила женщина, словно в воду опущенная. Во время побега из тюрьмы ее мужа убили. Когда ее вызвали «куда следует» и сообщили об этом, она не поверила охранке и ждала возвращения мужа домой три года. Люди национального меньшинства, проживающие в других республиках, обычно дружны и обязательны. Нашелся в охранке человек татарской национальности, который принес жене убедительные доказательства смерти мужа. Все время вдова вела пуританский образ жизни, мало бывала на людях, не улыбалась. И неожиданно вышла замуж. Ее давно сватали за молодых людей татарской национальности, но вдова и не помышляла о замужестве. И вдруг вышла за старика, у которого незадолго до этого умерла жена – старушка. Ей не было и тридцати лет, ему – около пятидесяти пяти. У вдовца был сын, почти ровесник его молодой жены. Судя по поведению «молодых», старик был равнодушен к женскому совершенству, жена и вовсе относилась к нему, как к дедушке. Она никогда никому не рассказывала о мотивах, толкнувших ее к этому неравному браку. Но дворовые кумушки у кого-то через кого-то выведали подноготную странных отказов красивым парням: вдова дала зарок до конца дней своих не изменять тому, кто был ее первой и последней любовью. После гибели мужа она перенесла всю силу любви на своего сына, которого и без того любила до самозабвения. Ради сына, ради того, чтобы он не познал тягот безотцовщины, мать и вышла замуж за старика, немощного и безразличного к прелестям прекрасного пола.
Читать дальше
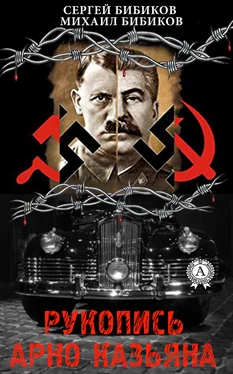



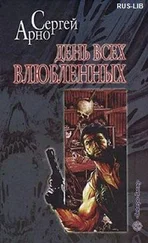

![Сергей Арно - Фредерик Рюйш и его дети [Гид по ранним коллекциям Кунсткамеры] [litres]](/books/398131/sergej-arno-frederik-ryujsh-i-ego-deti-gid-po-ranni-thumb.webp)