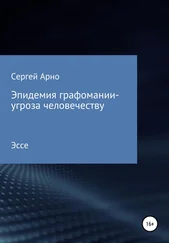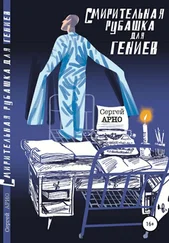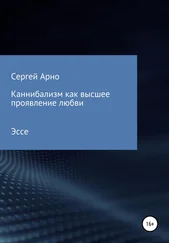2. СЕМЬЯ
Ну, во-первых, воспоминания о детстве.
О раннем детстве я мало что помню, разве только то, что страшно было оставаться одному в квартире, когда отец уходил на работу, а мать – в поход по магазинам за продуктами. Да вот еще…, но это уже не по памяти, а по рассказу счастливых родителей, который они передавали с неизменным юмором каждому, кто еще до того не слышал об этом. Каждый раз, оставшись в квартире, то ли со страху, то ли по привычке, обделывал простынку. После этого на меня находило вдохновение, и я принимался за писание пальцем или ладошкой очередной картины на стене у кроватки – ковриков тогда не было. Само собою, мои картины были сугубо сюрреалистическими, ибо малевал я их не красками, а собственными экскрементами. Должно быть, «картины» мне нравились, потому что, по словам матери (едва она принималась за отмывание стены), поднимал сердитый рев.
Эти события были «заповедной ценностью» нашей семьи. Спустя четыре года у меня появился брат. Конечно же, как и у всякого малыша у него были свои «заповедные ценности» для родителей, но пальма первенства постоянно была моей.
Я очень рано уяснил себе сладость обладания пальмой первенства в семье, с братом обращался постоянно свысока. Основным критерием своей оценки умственных способностей родителей считал их глупость и обращался с ними соответственно, без «китайских церемоний». Они это воспринимали юмористически, пропуская мимо ушей не всегда приятный для слуха «цыплячий» критицизм. Как-то уж так получалось, что чем взрослее я становился, тем очевиднее для меня становилась родительская «глупость», тем лаконичнее и суровее обращался с ними.
Я действительно был вундеркиндом: в пять лет бегло читал, легко запоминал прочитанное и умел почерпнуть главное из него. Отлично считал. Неплохо рисовал.
Когда пошел в первый класс школы, отец купил мне мандолину и срочно стал осваивать ее с тем, чтобы, научившись играть, научить тому же и меня. И тут я взошел на новый пьедестал – пьедестал уникума на музыкальной ниве: намного превзошел отца в музыкальных способностях.
В школе, с первого и до последнего дня, то есть до окончания десятилетки, учился исключительно на «отлично».
Что касается брата Гриши, то он по всем статьям отставал от меня: долгое время читал по складам, тут же забывая прочитанное, тем более, что будучи рассеянным, постоянно упускал главное из него. С арифметикой, а потом и с математикой не ладил, как, впрочем, и с остальными предметами. С музыкой то же.
Там, в лесу, на подстилке из прошлогодних листьев, вспоминая все это и по новому оценивая и родителей с их несложившейся в последующем семейной жизнью, и младшего брата с его уникальной способностью быть и добрым, и всепрощающим и, главное уникальной способностью не быть эгоистом, вроде меня, готов был, что называется, провалиться сквозь землю от стыда за свой эгоизм. Как мне захотелось находиться сейчас с ними вместе, защитить их ценою жизни, если это понадобится! Я имел в виду мать и брата. Что касается отца, то я знал из письма, полученного в начале войны, что он эвакуировался с другой, молодой женой, свою же семью оставил в Харькове на «милость» фашистам, а ведь мама принадлежала к опальной нации, обреченной Гитлером на геноцид! С отцом я не желал встречаться вовсе. Уверен, что если бы отец был настоящим человеком, то, несмотря на разрыв с женой, он смог бы ее эвакуировать, а с нею и восемнадцатилетнего Гришу. Он этого не сделал. Что ж, значит, у меня нет больше отца…
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, а это было в 1933 году, мы получили «хорошую» квартиру на Дмитриевской. Это была однокомнатная квартира с общественной кухней, так называемая, коммунальная. Уж не потому ли, что в комнате площадью десять квадратных метров проживать стало сразу четверо членов семьи? Правда, в квартире на Дмитриевской была общественная кухня, которой не было на прежней квартире, и мы больше не готовили пищу на примусе в комнате.
Может, поэтому она и называлась коммунальной, от слова коммуна, что означает – вместе? Только, как я убедился вскоре, общественная кухня – далеко «не Рио-де-Жанейро». Иногда я даже с тоской вспоминал шум примуса в нашей комнатке в Горлановском дворе, запах керосина и гари и возню матери приготавливающей пишу с обязательным мурлыканьем под нос какой-нибудь опереточной арии.
Она обожала оперетту и при всяком удобном случае посещала ее. Музыкальностью ее Бог не обделил. И, хотя она не играла ни на одном из инструментов, пела отлично. Не знаю, как на работе (она работала буфетчицей), но дома во время бесконечной домашней возни (ведь ей нужно было обслужить трех мужчин, двое из которых категорически отказывались унижать свое мужское достоинство помощью женщине: этими «двумя» были отец и я – «умник») она постоянно пела. И только Гриша пытался хоть чем-нибудь помочь матери.
Читать дальше
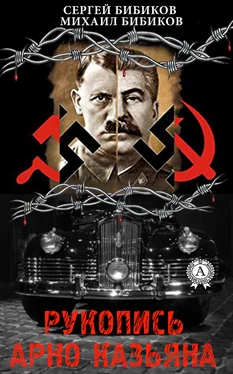



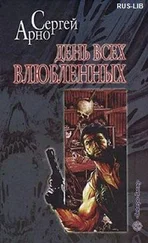

![Сергей Арно - Фредерик Рюйш и его дети [Гид по ранним коллекциям Кунсткамеры] [litres]](/books/398131/sergej-arno-frederik-ryujsh-i-ego-deti-gid-po-ranni-thumb.webp)