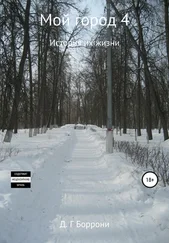Лёжа рядом с женой, Мякишев не мог уснуть. Ужин давил на желудок, было трудно дышать. Супруга повернулась к нему спиной. Как обычно. Она казалась спящей, но Михаил Фёдорович боялся шевелиться, чтобы жена не спросила, почему он ворочается и что же случилось.
Он попытался считать баранов: так его учили в детстве. Но, как и тогда, у него ничего не получилось. Представлять скачущих через заборчик лохматых рогатых зверушек было невыносимо скучно. Они сливались в одно большое раздражающее пятно, спать от которого хотелось всё меньше. Мякишев бросил считать на четвёртом десятке.
Михаил Фёдорович вновь начал прокручивать в голове разговор с Твидовым, пытаясь найти в нём какие-то ответы, но ничего не выходило. Мякишев был так растерян, что даже не мог сейчас точно вспомнить, как вёл себя начальник – был ли он хотя бы немного испуган. Он не помнил, сколько длился их разговор. Ему просто показывали бумагу и гриф «совершенно секретно». Михаил Фёдорович читал, но ничего не понимал. Сейчас он не был до конца уверен, что там действительно говорилось о «летальном исходе», даже если он был «возможным», а не «вероятным». Или наоборот? Мякишев уже не знал. Не знал, как лучше.
Он только вспомнил, или ему и это казалось, что на прощание Твидов как-то по-особенному долго жал ему руку. Ещё его попросили написать расписку, что он ознакомлен со спущенным документом, после чего Андрей Афанасьевич выдал ему листок с адресом, заполненный чьей-то чужой рукой. И больше ничего.
Незаметно для себя Мякишев уснул. Снов он не видел. Всю ночь Михаил Фёдорович так и пролежал на спине. Где-то он слышал, что в такой позе можно и умереть. Но он был жив. Значит, так было нужно.
Он проснулся первым, а когда вставал с кровати, Ольга Дмитриевна даже не шелохнулась. «Значит, не притворяется, тем лучше», – подумал Мякишев.
Михаил Фёдорович вышел в соседнюю комнату, где спала дочь, и начал быстро одеваться. Уходить, не простившись с женой и ребёнком, думал он, было как-то не совсем правильно. Но что он мог им сказать? Говорить о чём-то было поздно.
Мякишев глянул на часы – почти восемь. Ехать было нужно через весь город. Он планировал успеть к девяти. Точное время ему не назначили, но Твидов попросил его прибыть пораньше. «Если они работают по субботам, в девять там уже должно быть открыто», – думал Михаил Фёдорович.
Он заглянул в спальню – его жена не реагировала: немного поджав ноги к животу, застыв, она лежала лицом к стене. Из занавешенного окна в комнатный мрак пыталось пробраться хмурое утро.
Выходя, Мякишев поцеловал дочь. Девочка открыла глаза.
– Папа, мы пойдём сегодня на мультик? – спросила Зина.
– Обязательно, – ответил Мякишев, чувствуя, как его душат слёзы.
Он быстро обнял малышку.
– А где мама? – спросила она.
– Зиночка, доченька моя, – принялся причитать Михаил Фёдорович.
– Мама на кухне? – девочка села на кровать.
– Спит мама. Разбуди её, – Мякишев ещё раз быстро обнял дочь и, не обращая внимания на её вопросы, поскорее выскочил из квартиры.
Заперев дверь, он бросился вниз по лестнице.
Когда Мякишев добрался до указанного адреса, металлические тучи, угрожающе нависавшие с самого утра, расползлись: из-за их разбросанных вразнобой лохмотьев выглянуло солнце.
После вчерашнего дождя на улице было свежо и прохладно. Субботний город спал. Лишь изредка ехали куда-то, притормаживая, чтобы пропустить стайки пешеходов, одинокие автомобили. Из парка на кольцевую остановку по мокрому, зияющему дырами луж проспекту, чтобы подобрать с непривычки хмурящихся в утренних лучах пассажиров, размеренно полз пустой автобус. Жизнь вокруг оживала.
Остановившись перед безликим бетонным зданием, где вместо секретной лаборатории вполне мог располагаться склад спортивной одежды или любой другой объект, Мякишев услышал, как на другом конце улицы где-то во дворах затявкала невидимая ему собачка: должно быть, совсем маленькая и чрезвычайно при этом энергичная. Заворковали на грубом, грязном козырьке над входной дверью голуби – одна из птиц свесила голову, внимательно разглядывая раннего гостя. До Михаила Фёдоровича донеслись обрывки чьих-то голосов, приглушённая вспышка женского смеха. Возможно, это был ребёнок?
Мякишев оглянулся: улица была всё так же пуста.
Автобус, забрав людей, отъехал. Проспект снова был безлюден.
Никого не осталось. Всё смолкло. Затих собачий лай, исчезли голоса. Михаил Фёдорович задрал голову – голуби тоже сгинули.
Читать дальше