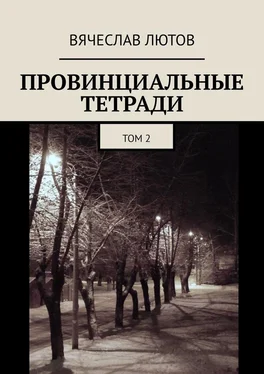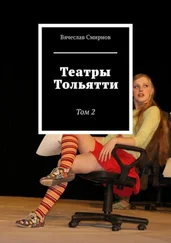Библейский антихрист творит добро и обещает благоденствие, отлично осознавая, что это ложь и обман; добро у него нечто вроде блестящего фантика, привлекающего доверчивого покупателя. Антихрист совершает только зло, и даже «одеяние святости» служит ему как инструментарий; антихристу недоступно сомнение, саморефлексия, чувство тоски и грусти; его лицемерие всегда оправдано безжалостной целью, оно не бывает стихийным или случайным. Этих черт герой Соловьева лишен . И если природа антихристова добра достаточно выражена у Федотова, то его психологическая природа как человека не замечена совершенно или представлена схематично.
На фоне «антихристова добра» и «святого сатаны» у Федотова несколько раз проскальзывает предчувствие, что «неправильность» соловьевского антихриста в том, что его герой не столько обманщик, сколько самообманщик ; он не столько обольститель, сколько обольщенный , а потому соловьевский антихрист должен быть прочитан не в действительном залоге, а страдательном. Ключевое отличие от традиции природы, «нутра» героя Соловьева в том, что ни у Святых Отцов, ни в Священном Писании нет той идеи, что антихрист родится «по недомыслию», что он будет творить свое антихристово добро «сам того не ведая»; «нет и намека на искренность его добродетели, на самообман последнего обманщика», – завершает свой обзор традиционных текстов Федотов /241/.
И не предпринимает главного шага – нарисовать психологический портрет соловьевского императора, проверить его антропологически, как по детектору лжи.
«Он верил в добро, Бога, Мессию, но любил только самого себя» – вот исходная психологическая установка героя повести. Сам Соловьев выделяет курсивом «верил» и «любил». Эта простая и ясная фраза обросла всевозможными истолкованиями – и основным искажением ее смысла стало использование ее как доказательства антихристова лицемерия. Между тем, совершенно очевидно, что любить – это одно, верить – это другое; это два различных действия. Когда ненавистник притворится, что любит, а атеист – что верит, это и будет лицемерием. Себялюбие и самолюбие не являются также достоянием только антихриста, как об этом говорит А. Мацейна в «Тайне подлости», и уж тем более не является его знамением. В конце концов, в Христа верят многие, но любят избранные. В этом смысле почти любой из нас подходит под формулу Соловьева – для того, чтобы быть антихристом, достаточно быть человеком. Еще раз повторимся: Соловьев наградил своего героя обыкновенным человеческим правом верить в Христа и, одновременно, любить самого себя.
«Он признал себя тем, чем был Христос», искренне поверил, что он не просто спаситель и исправитель человечества (наш герой мнит Христа своим предтечей), но и «призван быть его благодетелем». Кого здесь конкретно обманывает соловьевский антихрист? – только самого себя. Истинному антихристу обманываться незачем, он изначально выступает противником Христа и сыном сатаны, он наделен знанием об этом, а не примериванием чужих одежд. В нашем же случае – самообман, самообольщение, впадение в прелесть, «интеллигентский героизм» (если пользоваться термином С. Булгакова). Соловьевский антихрист мнит себя вселенским учителем, героем, тем, кто знает средство, как достичь общего благоденствия. Нового открытия для человеческой природы здесь нет – можно вспомнить для примера судьбу Гоголя, чрезвычайно яркую, но далеко не единственную.
«Он возненавидел Христа… поставил себя выше его… он считал себя грядущим и пришедшим». На языке психиатров это называется манией величия, и в любой психиатрической клинике найдется хотя бы один «Христос». Никто не запрещал, к примеру, Маяковскому называть себя богом, Бальмонту – Солнцем, Ницше – Антихристом; но ведь и никто не признавал за ними «законного антихриста». Мы, вернее всего, имеем дело с гротеском человеческого воображения, где «все глядят в наполеоны». Соловьев, внимательный читатель Достоевского, в какой-то мере «антихристализировал» дрожащую тварь Родиона Раскольникова. Естественно, такого контекста традиция не предполагала.
Самовозвышение нашего героя обернулось для него приступом ярости (очень близким, кстати, с автобиографическим случаем выбрасывания икон из окна), сменившейся приступом жгучей тоски. В судьбе «канонического антихриста» такой психологической сцены, как раздумья у обрыва, принципиально быть не могло. «Нестерпимая тоска давила его сердце, – описывает своего «сверхчеловека Соловьев. – Вдруг в нем что-то шевельнулось: «Позвать Его, спросить, что мне делать? И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ» /114/. Соловьевский антихрист, таким образом, призывает Христа в советчики – и Христос, кроткий и грустный, приходит к нему, «горделивому праведнику»…
Читать дальше