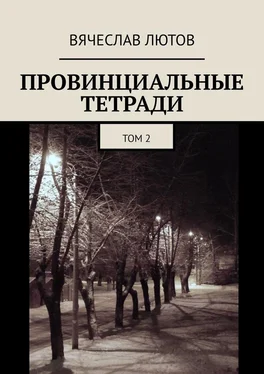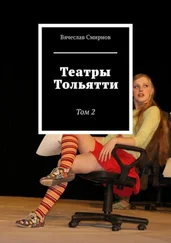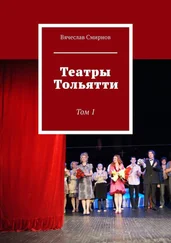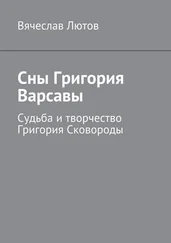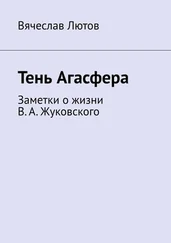Казалось ему, что он вошел в нищую деревню с покосившимися плетнями и стенами домов, вытащил из своего дорожного мешка горсть золотых монет и подбросил их высоко в воздух. Звон сразу же собрал всех жителей деревни – они выбежали к нему, ликуя и радуясь, и целуя его платье, когда он подбрасывал дукаты над их головами. Он даже удивился, что все так знатно у него получилось. Лишь младенцы остались в домах да седой старик, что, взглянув на него и народ, тяжело вздохнул и опустил занавеску.
Эта неприятность заставила дьявола проснуться и вспомнить о том, что утром он должен снова отправиться в пустыню искушать Иисуса Христа…
4.
Не обходя стражи, не замечая замерших от страха перед ним мелких бесенят, дьявол вернулся на свой круг, ничего не заказывая и никого не желая, сел на жесткий стул и закрыл глаза…
Сегодня ему предстояла бессонная ночь…
1995
АНТИХРИСТ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА КАК ЖЕРТВА (1995)
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“… И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга» /Мат. 24.,4—10/. Кто он, этот обольститель, какова сущность его, как он обманет нас, как его узреть, как от него спастись? – вот вопросы, которые на протяжении двух тысячелетий терзают дух человека, вставшего на путь евангельского завета. Из проповеди Христовой народился антихрист – как предостережение, знамение, наказание; мы ищем «врага Христа», чтобы он не нашел нас первым…
Миф об Антихристе слишком значителен, слишком актуален для религиозного сознания, чтобы быть просто мифом – в Антихриста верят даже больше, чем в Христа; зло привлекательнее, чем добро. «Дух Антихриста» разлит по миру, сам «Антихрист грядет и другие многие антихристы появились» /1 Иоан. 2.18/. Он рождает эсхатологическую напряженность, являясь центральным звеном христианской апокалиптики. Борьба со зверем становится духовным подвигом, а потому антихристология всегда будет соподчинена религиозному мышлению. Именно это легло в основу философского завещания Владимира Соловьева.
Об Антихристе написано много, о нем говорят часто /особенно на рубеже веков/. Типологически же можно выделить «трех антихристов». Первый антихрист – библейский и святоотеческий; его черты «канонизированы» и менее всего подвержены историческим изменениям. В древней традиции антихрист обозначен двояко: как обольститель, пришедший в облике Христа, и как абсолютное зло, не прикрываемое ничем. Отец его – дьявол; явится разрушитель перед вторым пришествием Христа, и будет уничтожен Сыном Божьим /Откр. 13,2—10/. «Традиционного антихриста» нам еще предстоит рассмотреть внимательнее.
Второй антихрист – раскольничий, частный, художественный; его появление всегда экспрессивно, основано на единичных знамениях, перенесено с библейской традиции на конкретную историческую ситуацию (как это было, к примеру, с «антихристом Петром 1» и сбритыми бородами). В основе раскольничьих и индивидуальных представлений об антихристе лежит эмоция узрения : «Вот – антихрист». Личный разрушитель легко становится художественной оценкой, как у Мережковского: «Вот – антихрист, вот – Христос». Именно этот «чувственный и импульсивный» антихрист является катализатором апокалиптичных настроений.
Наконец, третий антихрист – философский, ставший одной из главных заслуг русской религиозной мысли, но вместе с тем ее «прекрасной неудачей». Этот антихрист поверяет собой, прежде всего, философию истории, социологию, этику, эстетику; он ищет там свои личины. Девиз Константина Леонтьева «Я просто хочу понять» здесь более всего уместен. «Краткая повесть» Вл. Соловьева стала ярким примером философского антихриста и до сих пор считается истинным (хотя и в художественном выражении) учением о нем. В современных представлениях именно герой Соловьева подменил собой традиционного, «канонического» антихриста, а потому с позиции традиционной апокалиптики учение Соловьева можно рассматривать как еретическое.
В чем же суть этой подмены? – вот задача нашей работы.
В 1926 году, в «Пути», Г. П. Федотов опубликовал статью «Об антихристовом добре», где подчеркнул «отсутствие в древней традиции корней соловьевского антихриста» (здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Антихрист. Антология. М., Высшая школа, 1995; в скобках указана страница) – подчеркнул и тут же оставил, сославшись на то, что «модернизм образа еще не означает его лживости» /242/. Но слово сказано и вопрос поднят – если корни не там, тогда где?.
Читать дальше