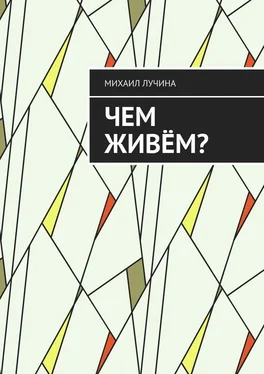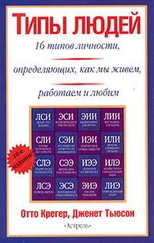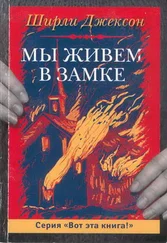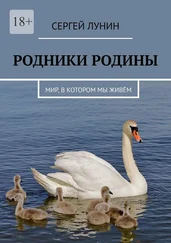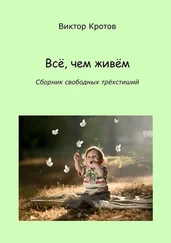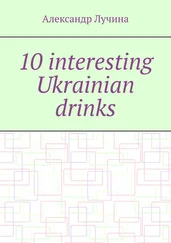В нулевые, как и всегда, хватало молодежи, не принимавшей гедонистической жизни, а жаждавшей осмысленного подвига. Кто—то ударялся в борцы против коррупции, кто—то в науку, в литературу… а кто—то в радикальный патриотизм. Стать патриотом—беспредельщиком было очень легко и даже привлекательно после тотальной разрухи девяностых. Особенно у национально—ориентированной молодежи. У этой социальной прослойки в особом спросе были идеи национал—большевизма и близкие им доктрины и, соответственно, различные партии и группировки, базировавшиеся на этих идейных течениях. Течения эти были в достаточной мере идеалистичны, что и пленяло молодежь. Одним из основных являлся тезис о синтезе русской великодержавности и советского социализма. Правда, объяснения, каким образом можно скрестить два данных явления, зачастую были крайне туманны, зато приправлены красноречивым слогом. В сухом остатке лишь: вера, патриотизм, коллективизм vs лгбт, либерализм, буржуи. Простые ответы на сложные вопросы и пышность словесных форм стали вполне достаточными, чтобы привлечь немало активных и здоровых молодых людей народа, достоинство которого находилось в ущербном еще состоянии.
В одну из таких группировок Артема привел его знакомый Женька, который был года на два старше. Группировка представляла собой немногочисленную ячейку областной партии, стремившейся влиться в социалистический фронтишко России начала двадцать первого века. В провинциальном городке нашего героя зародилась эта ячейка года два назад усилиями двадцатипятилетнего парня Захара, воодушевленного примерами народников девятнадцатого века, пытавшихся просвещать «черный люд». Наивный организатор решил попробовать возложить на свои плечи просветительское бремя. Однако далеко не только изучением трудов философов занималась сия группа. Просветитель привлекал молодых к спорту, собирал деньги для помощи малоимущим, а еще в две тысячи восьмом году сгонял с несколькими пацанами из городской округи на «пятидневную войну» в Южную Осетию. Повоевать не успели, но где—то нарыли натовские формы, которые изредка да примеряли уральские мальчуганы.
О прошлом нашего народника было ничего неизвестно. Несмотря на это, Артем бы и не вспомнил хоть одного, у кого тот не вызывал уважения. Со стороны вся эта деятельность вписывалась в формат военно—патриотического клуба. На самом деле, такое можно было сказать лишь о той деятельности ячейки, которая отводилась несовершеннолетним. Для тех, кто по старше, был подобран более широкий ассортимент – от разруливания спорных моментов на местечковых стрелках до реального партстроительства.
Иногда в городе закипала ситуация на почве межнациональной розни между русскими и кавказцами. И наш просветитель старался влиять на ситуацию в дружбенародном духе. В кругу своих он пояснял:
– Я знаю как сложно у вас здесь с нацменами. Но вы должны успокоить и себя и всех здешних…
– Ах, собрать бы их всех в одном месте и как дать по ним ядерной боеголовкой… – злобно отшучивались товарищи на его призывы.
– Для русских и для России это не выход. Был момент в истории, когда мы взяли ответственность за них…
В его мировидении национализм, выходящий за пределы любви к своему народу до притеснения инородцев, был одним из первейших супостатов. От русских он хотел, чтобы они проявляли трезвую сдержанность и миролюбивую воспитательную функцию к иным народностям, а также, чтоб они не допустили со своей стороны порожденного местью опьянения, которое подтолкнуло бы расчехлить ружья против не славян. Подобная месть, по его мнению, раздербанила бы Россию руками самих русских. К сожалению, далеко не каждый, точнее даже – редкий, представитель титульной нации имел моральное право воспитывать что—либо в ком бы то ни было. А на этом фоне те, кто по крови славянами не являлись, находили себя в состоянии учить великороссов жизни.
Свою лепту в общее дело пытался внести и Артем. Левые воззрения не оставили его равнодушным. Только вот смесь социализма и детства родила такую форму протеста, которую иначе как мелким пакостничеством не назовешь. Он сотоварищи в городской ночи срывали плакаты правящей партии и оставляли на фасадах ее местных отделений граффити, в которые дети, по большей части простых рабочих, вкладывали смысл по—пролетарски честный и резкий, олицетворявший их боль за преждевременную кончину того былого, которое большинство из этой пацанвы узрело лишь в форме останков. К сожалению, а может быть и к счастью, Артем больше не отметился ничем.
Читать дальше