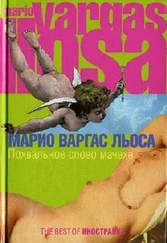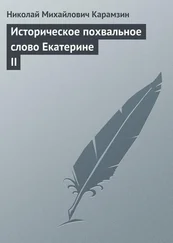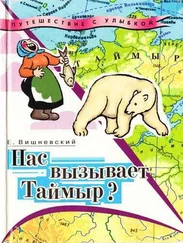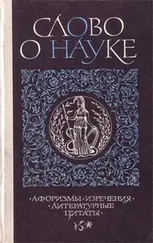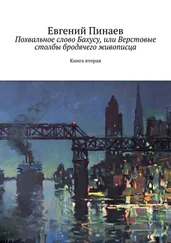Океанические волны покачивали, начинало штормить, но я добавлял по махонькой до тех пор, покуда не опустела бутылка, а книга не вывалилась из рук. Что из того? «Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела». Аминь!
Я всё ещё видел пингвинов и ледяные громады айсбергов, когда хмурый рассвет осветил на подушке мою оплывшую рожу и милую жёнушку, вошедшую в дверь. Вещее сердце заставило её вернуться и, бросив взгляд на распластанного супруга, сказать твёрдо и непреклонно, что это не хорошо.
Н-да, удары рока неотвратимы, и от судьбы не уйти…
Quieta non movere – «не трогать неподвижное», говорили латиняне, и ох как были правы! Ну что бы ей оставить «неподвижное» в покое?! Дать проспаться. Мне же дали про… Не буду, не буду употреблять первое, что просится на язык. Однако «известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный», как заметил Достоевский в «Скверном анекдоте».
Прервусь, чтобы объясниться.
Пусть читатель не посетует на обилие примеров, почерпнутых там и сям. Просто я следую за любимым писателем, большим поклонником употребить в дело хорошо сказанное другими. Безусловно, что дозволено Юпитеру, то не позволено быку, но человек слаб. Я же был слаб вдвойне и втройне. Да и сам Вэ Вэ дал в своих сочинениях полезный совет начинающему сочинителю: «Если же попадётся на глаза мысль большого учёного или философа, тоже не бросай её на ветер. Сразу отыщи в своих писаниях самые плоские и скучные эпизоды – а отыскать их не так трудно, как ты думаешь, – и посмотри на них под углом чужой мысли. Затем введи её в текст, но не грубо. Сделай это нежно. И, к твоему удивлению, плоские места вдруг станут возвышенными». Совет мне очень пригодился и в обыденной жизни, ибо упомянутый «бодун» не позволял… тьфу, позволял оперировать только чужими мыслями за отсутствием собственных. Тем паче я чуть было не утонул в потоке гневных обличений, сравнений, уподоблений и ядовитых сарказмов. Я был захлестнут ими! В башке творилось что-то невероятное. Она собралась с силами и решилась на контрапункт:
Я встал, душа рвалась на части,
И ты одна осталась вновь…
И всё ж любить – какое счастье!
Какой восторг – твоя любовь!
– Это – Гёте… о-ох! – пояснил я, силясь подняться.
– Гёте! Байрон! Гейне! Звонишь во все колокола, – огрызнулась лучшая из жён, – да не в коня корм! Подумай лучше на досуге, сколько бутылок ты опростал за свою постылую жизнь! Сосчитай, если сможешь, а я возвращаюсь в город! И, хлопнув дверью, тотчас легла на обратный курс.
Наконец мне удалось принять вертикальное положение, сунуть ноги в пимы и добраться до горшка: «Мы идём, а нас штивает, на нос льет, с кормы сливает, и так поддувает, что колосники в трубу летят!»
О, память о былом, о, добавлю, морская память! Вспоминая иные шторма, семейные бури принимаешь за штиль, воспринимаешь как должное – с оттенком форсмажорности – течение жизни в сухопутных обстоятельствах… Утешив себя таким образом, я окончательно водрузился на эрзац-унитазе и выковырнул из пачки пересохшую сигарету.
Дикарка – северная лайка, внимательно следившая за моими манёврами и конечной циркуляцией вокруг «циркумференции» – облегчённо вздохнула и положила морду на лапы: поняла, сердешная, что думаю не о косточке для неё, а мыслю я даже не о себе конкретном и любимом, а о себе абстрактном – потребителе всевозможного зелия, и о количестве оного, которое погрузил в ненасытную утробу. Так сколько же?! О, боже, о, ироничный и праведный Козьма Прутков, внемлю твоей мудрости: «Где начало того конца, которым заканчивается начало?» Где? Нет ответа. А жизнь действительно постылая: «Или курим натощак, или пьём с похмелья».
Из двери тянуло, морозец хватал за ноги. Я поднялся с седалища, огрел кулаком – а надо бы головой! – тяжёлый мольберт, который бесстрастно принял незаслуженную обиду, и начертал пальцем на запылённой палитре: DITTO. Не знаю, пишут ли это слово нынешние вахтенные помощники, начиная в порту суточное радение за вверенный им пароход. Значение его таково: стоим в прежнем положении. То есть никаких происшествий, «верёвочки», которыми привязаны к берегу, целы, ещё не пропиты боцманом, огнетушители тоже на месте, а любой проверяющий может закрыть пасть – упущений нет, служба бдит, и вообще все тип-топ и оки-доки.
Отметившись таким образом и ни на миг не забывая об упущениях, я перебрался к столу и уставился в окно. За ним – леденящие душу белоснежные сугробы и тощие голоногие лиственницы. Ветер ещё срывает с них остатнюю желтизну, а черные шишки напоминают воробьёв, прилетевших с помойки соседа. Ель и пихта, посаженные в один год с этими на диво вымахавшими дылдами, выглядят юными красавицами в аккуратных зелёных юбочках. За ними – несколько крыш и озеро в заснеженных берегах. Стылое, холодное, но ещё не замёрзшее, что, впрочем, дело ближайшего дня. Прекрасное озеро, хотя и загаженное людьми. Морям-океанам тоже досталось от хомо сапиенса. Везде успевает напакостить пострел!.. И озеро, которое я называю мини-Балтикой, и любимый мыс, названный по той же аналогии Брюстерортом, – то, ради чего я и оказался на берегах здешней акватории. Поэтому на холстах моих «плещут холодные волны, бьются о берег морской», а на полке стоят книги Виктора Конецкого. А что пыль на палитре… Будем считать её морской пылью, как насмешничала героиня фильма «Дочь моряка».
Читать дальше