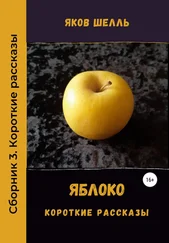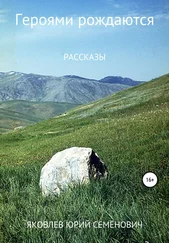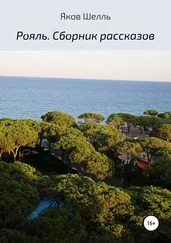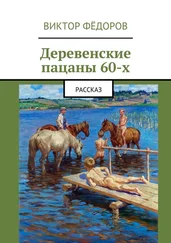Сегодня я осознаю, до какой степени мне повезло.
Личные качества Якова Яковлевича Логвиновича располагают к нему каждого, узнавшего хотя бы мельком.
(Уверен, с этим моим заявлением не станет спорить никто!)
Моя мама, доцент Башкирского государственного университета, в свое время тоже окончила матмех ЛГУ. Ее оценки отличались максимализмом, ей никогда не нравились мои друзья (тем более подруги, не говоря уж о моих женах).
Поступать в университет она меня привезла лично, ходила со мной везде.
Она видела Яшу один раз в жизни – даже не разговаривала с ним, только наблюдала, как мы общаемся у окна, выходившего на страшное, как смертный грех, закопченное здание НИФИ.
Но все пять лет, когда я приезжал в Уфу на каникулы, мама спрашивала:
– А как поживает Яша Логвинович?
Мне кажется, такое отношение лучше многих слов выражает человеческую привлекательность моего первого матмеховского друга.
В этом мемуаре я хочу написать о Якове Яковлевиче Логвиновиче – нарисовать его портрет тому, кто ничего существенного о нем не знает.
Но должен сразу оговориться.
Во времена матмеховского студенчества я знал о Яше только то, что он – отличный парень.
Я виделся с ним в коридорах и перед лекциями, перебрасывался фразами, травил анекдоты (преимущественно неприличные, как и положено 20-летним молодцам…) и радовался легкому общению.
Факты, приведенные тут, я узнал, возобновив общение с Яшей Логвиновичем спустя 38 лет после выпуска.
Почему так получилось?
Отчасти из-за свойств моего характера.
Отучившись пять лет в ЛГУ, я не имел на курсе настоящих друзей. Всерьез дружил только с механиком Андреем Бородиновым, который учился на год позже.
Дело в том, что как математик я был полный нуль, даром что получил « красный » диплом, поступил в аспирантуру и выжал из себя кандидатскую диссертацию раньше всех, опередив прирожденных ученых, каких на нашем курсе хватало. Просто я очень хотел хорошо жить, а звание доцента в ВУЗе советских времен давало пожизненную гарантию обеспеченности.
(О том я подробно написал в книге о своем старшем друге, доценте матмеха Денисе Артемьевиче Владимирове.
Повторяться не вижу смысла, изложу ситуацию тезисно.)
Учиться было трудно, математика давалась неимоверными усилиями, поскольку я не испытывал к ней неутилитарного интереса. Это, естественно, не скрывалось от тех, кто учился с удовольствием. На курсе меня не уважали как студента и не любили как человека, поскольку любить было не за что. Я этим не тяготился, я не считал себя сосудом чистого золота, который все должны любить.
(Как не тягоТюсь по сю пору.)
Я периодически сближался с кем-то из сокурсников – легко, не страдая отсутствием коммуникабельности – и так же легко расставался по исчерпании тем.
На матмехе я был чужим, как раввин на крестном ходу, что подтвердили годы, прошедшие после студенчества.
Слоган «Матмех лучше всех », традиционный для бывших однокашников, ко мне не имеет отношения.
Для меня матмех – это ад, мрак и крах.
(На 10-летие выпуска в 1991 году я пришел с радостью, пыжился гордостью от учебы в Литинституте и предстоящего вступления в СП СССР, хотел утереть нос ничтожным корнеплодам математикам.
На 20-летие в 2001 приехал по инерция, но не получил положительного, даже короткий чувственный опыт с одной из сокурсниц ничего не исправил.
А на 30 лет в 2011 – быв человеком, приплясывая на вершине жизни при двух иномарках и ИП со 100 тысячами неучтенной месячной прибыли – я уже не поехал.)
Нет ничего странного в том, что с Яшей Логвиновичем мы близкими друзьями не стали, студентом я ничего о нем не знал.
Причиной служила и личность Яши.
Выше я аттестовал вхождение в университет « страшным ».
Я приехал в Ленинград из Уфы, неся на лбу печать « гордости школы ».
(Гордостью и являлся.
В стремлении получить медаль и поступить с одного экзамена я был не просто круглым, а каким-то шарообразным отличником.
Да вот только школа наша была английской, математике учили так, что лучше бы не учили вовсе.
При отсутствии врожденного интереса ни заочные МШ союза, ни очная ЮМШ при БГУ, ни прочие рычаги не могли компенсировать атмосферу реальной спецматшколы, в которой детям – как говорила мамина сокурсница Елена Александровна Быкова-Максимова – « попу подтирают интегралами ». )
В Ленинграде, центре российского интеллекта, насчитывалось немало математических школ. Самыми известными были №30, №239 и интернат №45, собиравший будущих Пуанкаристов всей области.
Читать дальше
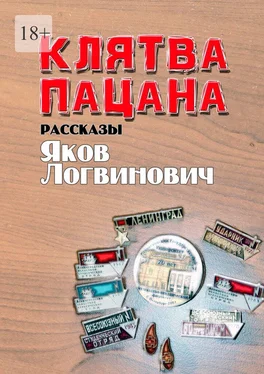
![Яков Тайц - Приказ [Рассказы]](/books/30552/yakov-tajc-prikaz-rasskazy-thumb.webp)
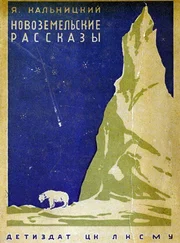
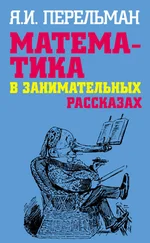
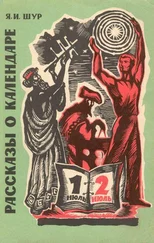

![Яков Алексеев - Дунин мох [Рассказ о торфяных болотах]](/books/411238/yakov-alekseev-dunin-moh-rasskaz-o-torfyanyh-bolota-thumb.webp)