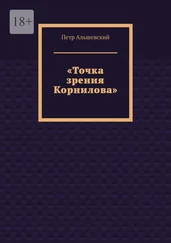В моей голове неуклюже складываются строки, преобразованные в постели с Николь Буало в первую написанную мной песню «Ушастый Бэмби глохнет».
Неуверенно переспав с Николь, я утаил случившееся и от отца, и от князя, о маме я не говорю, ее отвлекать ни к чему; представив нашу семью политическими беженцами, она выбивает для нас французское гражданство, многочисленные знакомые князя параллельно хлопочут в инстанциях, ожидаемый знакомый застает меня за карточным столом.
Поодаль восседает отец. Мы не подходим к телефону. Полученным известием с нами делится князь, показавшийся в дверях с налитым для церемониала лафетником водки: Павел! Владимир! Я пью за вас русскую водку. Мне вредно, я пью – отныне вы французы!
Ни хрена, пробурчал отец. Трубе не хватает воздуха.
Музыкант на фабрике. Необщительный и колючий, в смысле небритый, обсасывает сладкие косточки, его поймать непросто потому что он шаман маленького роста. Лужайка под окнами усеяна осколками новогодних игрушек, вышвырнута целая коробка, некуда девать мышцы. Набухают в сторону увеличения, зимний праздник здесь – смешно.
Или расхлябанность, или чрезвычайная зажатость, лошади в цветах спят на бегу, умея издавать омерзительный свист, какая у меня аура? Ты спокоен. Я спокоен. Но все же – чем вызвана истерика? Внимательно за всем следя, я не догадывался, что я непобедим. Отец открывал рот, но молчал, за него говорил я, с некоторых пор постоянно, аппетит улучшен; удовлетворив голод, душа растекается и отдыхает. Струнная секция не фальшивит.
Полежи, а я схожу на второй этаж, где у князя книги, изданные на моем языке, «Морские рассказы» Станюковича трогают до слез, исторические труды Корнелия Тацита наслаивают затемнения, притягательная сила Рэя Бредбери совершенно не воздействует, занятия самообразованием приемлемо компенсируют преждевременно законченную учебу.
В Амстердаме я хотя бы ходил в школу при посольстве, тут для меня что-то неугомонно подбирают, рьяно ищут, проверяя мою бдительность, подсовывают неприемлемые варианты; не вдаваясь в детали, отступают, поехали на запад. Мы и так на Западе, папа.
На запад Парижа. В Версаль! Ну да, Версаль, изъеденная листва на мраморных скамейках, перекошенные физиономии скульптурных групп, фонтаны лупят выше деревьев беловатой жидкостью, везде фасады и купидоны; разойдясь в Галерее военных битв, столкнулись в салоне «Большой прибор».
Фундаментальная подноготная названий хватает за ухо и ведет вглубь, настойчиво выводя наружу под подрагивающий солнечный диск. Оттуда идет жизнь, приходящая сюда ее воплощением. С чем пирог? С макаронами. С отборными? Потом поговорим. Я же ничего не ел… Мне голодно. В метро приглашают на сдачу крови, у меня нет сил отрицательно покачать головой; выкачав до капли, поставят мумией, в музей я не пойду. Меня отнесут. Как у тебя с картинами?
Они передо мной проплывают, и я их понемногу зарисовываю на пустые листы в слипшейся книге подсознания. Что касается выставленных на общее обозрение, то с этим проще. Мы с папой наведывались и в Лувр.
Выходы случались пару раз в неделю, и перед каждым из них мне полагалось провести немалую подготовительную работу. По заданию отца, требовавшего от меня, чтобы я выбрал какое-нибудь произведение живописи и выучил сжатую биографию автора, историю создания полотна, поначалу я учил. Затем взялся придумывать. К примеру, мы подходили к «Клятве Горациев» Жака Луи Давида, и я с серьезным видом принимался рассказывать: художник скакал. Не платил за квартиру, приставал к пятилетним детям, рассчитывая на побои со стороны их родителей, да, он слыл мазохистом. Человек, передающий три меча стоящим напротив, надеется, что мечи воткнутся в него. Понурые женщины, прислонившиеся головами, сейчас отодвинутся и с размаху ударятся, вышибая мозги. Двое малышей под накидкой лелеют натянуть ее поплотнее и задохнуться, а это «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа, отхаркивавшего на холст выделения, проигравшись на скачках, где он просадил семейное состояние, оставшись без средств на содержание шестерых калек-братьев. Полуобнаженная дама с флагом выступает его разъяренной матерью, мужчины с ружьем и пистолетами воплощают образы изготовившихся к мщению родственников; ступая по трупам загубленных мечтаний, не оглядываются на виднеющийся в дыму город, отец меня не перебивал. Кивал и позевывал, медленно реагируя на изменения.
Посольский работник, заметный МИДа кадр, и вдруг никто. Я рядом с ним. Мы несокрушимая команда, нахлестывающая строптивых лошадей, съезжая с трассы, не делаем из этого проблему, рассекая Пустоту, весьма полезный опыт, нам суждено жить за счет князя в призрачной империи Хрупких Фигур, не замахиваясь на что-нибудь серьезное.
Читать дальше