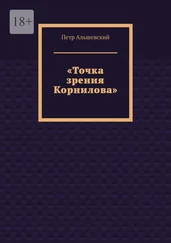Мы, Паша, уезжаем навсегда.
Навсегда из Амстердама?
Я бы так не сказала. Как раз в Амстердам мы еще сможем вернуться.
А куда не сможем?
Туда, Павел, туда… Ты скоро поймешь.
Я несомненно, я вникну, нас доставляют под охраной в столицу Франции, везут по ярко освещенному Парижу, рекомендуя воодушевиться и не выглядеть столь утомленными, и ты, мальчик, не хнычь. Идиоты… Разве я когда-нибудь хныкал. Опасений в достатке, но я ношу это в себе, только и делаю, что бодрюсь, по лестнице на гору, по лестнице с горы, трусливое убожество, мне не освободиться из-под опеки, я на иждивении у отца, он теперь безработный отщепенец, едва ли нас привезли сюда нищенствовать, мама должна была все просчитать, тянущиеся из приемника мелодии вызывают во мне разноцветные вспышки, лиловый и зеленый описывают дугу над подголовником водительского кресла, коричневый и серый относятся к насупленному папе, завтра мне исполняется четырнадцать. Никаких подарков я не жду.
Мы подъезжаем к воротам, открывающимся без малейшего скрипа, кривоватая аллея идеально выстрижена, в особняка организована встреча, прислуга кланяется и сует отцу поднос с шампанским, чем мы расплатимся? Кто снял для нас подобный замок? Входи же, Паша, сказала мама. Вытри ноги, ну ты вытрешь, слава богу, ты воспитанный парень и не опозоришь меня перед твоим прадедом. Перед кем?
Вот перед ним.
Подтянутый невероятно древний старик в пушистом свитере протягивает мне морщинистую ладонь, глухо рассмеявшись, придвигает к себе и крепко целует в щеку. Я пребываю в сомнениях. Я весь обмяк. Ловлю взгляд отца, но он, почесывая подбородок, отвернулся к стене.
Добрый вечер, Павел.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня извините, однако если вы хотите начать беседу, начинайте ее сами.
Складно говоришь, мне нравится. Мы найдем с тобой контакт, я убежден. Никуда, ха-ха, не денемся. Ты заколдован совковой действительностью, но жажда свободы в тебе жива, за потуги воспрепятствовать тебе в ее обретении ты удушишь, правильно, Павел, ты пришелся мне по сердцу.
Тебя касается губами неизвестный тебе дед, ты не ропщешь и не бьешь ему в пах, родная кровь. Ее влияние всегда ощущается. Но неужели ты не знал к кому едешь? За все время тебе никто не рассказал, что в Париже доживает свой век такой родственник? С особняками, счетами в банке, с неизбывной тоской по Родине. Она вас объединяла?
Все полтора года, которые я провел в Париже, почти ежедневно ведя затяжные разговоры с моим славным прадедом Андреем Николаевичем Серковским, удивительным человеком, сохранившим и русскую удаль, и юношескую придурь, мама лгала не мне – всем.
Мой дед, писала она в анкетах, был истинным пролетарием, заслуживающим доверия выходцем из рабочей семьи. Идейным токарем, погибшим на Гражданской войне в боях с армиями генерала Юденича.
Не говоришь же ей правду: мой дед, князь Андрей Серковский, не приняв вашу революцию, отплыл из Крыма в Константинополь; поклявшись на верность царю и отечеству, не складывал оружия до осознания полной безысходности дальнейшего сопротивления; обосновавшись в Париже, поддерживал связь с дочерью, а затем со внучкой, обещая способствовать побегу – изыскивайте лазейку. Ищите возможности. Мама искала. За отца она вышла по любви, но, увидев его перспективы, подпихивала и пододвигала: уважай нужных людей, активизируйся на собраниях, почаще приглашай с нам второго секретаря райкома. Отчаянный алкоголик. Я его отлично помню.
Низкий лоб, обвислые щеки, молодая жена, бессмысленно бормотавшая: благодарю за обед. Вы мои друзья. Обретя друзей, я осуществила давнюю мечту. Могу сказать определенно. Теперь в это уже можно поверить.
А я в Париже, я не верю, слыша шаги тяжело ступающих голубей, не питаю иллюзий по поводу дружбы с престарелым князем; оледенев от непонимания происходящего, нарочито диким голосом вопрошаю: вам девяносто?
Зови меня на «ты».
Тебе сто?
Всего восемьдесят шесть. Закончив с материальной деятельностью, я покину землю отретушированной птичкой предположительно в районе «Комеди Франсез».
Вам… твой юмор по мне.
Кто поставил на мой стул блюдце с абрикосами?
Надо смотреть, куда садишься. Но тобой овладевает всесторонняя слабость. Старческие слезы капают в пустой таз, неприятным звуки раздражают дворецкого Лорана; он настолько деловой и холодный – у него бы классно получилось сыграть в кино наркомана.
Ха-ха, я ему передам, ну ты и шутишь, кхе-кхе, как же ты меня радуешь, моя суть! моя порода.
Читать дальше