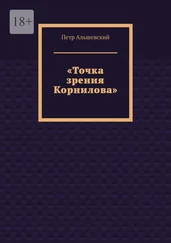– Ты для себя, Зоткин, может, и никто, – обоснованно предположила она, – но я для себя пока еще представляю какую-то ценность: я не буду с тобой больше встречаться. Мне надо. Что надо?
– Что? – пробормотал Зоткин.
– Уважительней к себе относиться.
Виктору пока не хватает секса с самим собой, и от ее слов он равномерно побледнел. Начиная с сердца и заканчивая безукоризненно желтыми зубами.
– Как это не будешь? – спросил он.
– А вот так, – ответила она. – Не буду и все. Но если у тебя до завтра вырастут усы, то буду. А если не вырастут, то не буду. Так что придавай своей внешности приемлемую для меня мужественность и приходи к восьми на наше место.
Она вытолкала его из квартиры, и Виктор Зоткин уступил ее силе: он еще в шесть лет прочитал в дневнике своей матушки много матерных слов – я к вашим услугам судьи и палачи…
Зоткин дошел к себе, покачался на стуле и обреченно повалился на диван. Усы у него не отрастают и за полгода, он как-то проверял, пробовал, а тут уже завтра; Виктор Зоткин праведник без окончания, и он не приложит ума что ему делать.
Ночью Виктор, конечно же, не уснул, и когда наступило утро, он встал с дивана, сложил губы в трубочку… обида… заметно… не носишь часы, как счастливый? носил, но сняли: подонки на родном Цветном, обкуренные подонки – предотвращая бескровное расстояние, Виктор отправился в ванну резать вены.
Не ценила, ты меня не ценила, не ценила, что я и полнейшем безумии оставался чистым ребенком; исподлобья посмотрев в зеркало, он чуть было не загнулся от обширного инфаркта – усы… за какую-то ночь так отрасли, что и мексиканским мачо в югославских вестернах нечасто дано. Ха-ха, не мни себе, Людмила, что я люблю тебя из добрых побуждений; Виктор Зоткин глухо засмеялся и убил оставшееся до вечера время перелистыванием двухстраничной брошюры о погребальных услугах по захоронению отбившейся от тела души; позже он, не отклоняясь от курса, пошел на Патриаршие. На их заветное место.
Людмила Голицына была уже там: юбка выше колен, презрение в глазах не спонтанно разбавлено бесчувственным ехидством, однако, заметив Зоткина, она свой настрой как-то сразу притушила. Глаза в объеме почти не приобрели, но теперь они несколько навыкате.
Виктор подошел к ней по прямой и вогнал женщину в надежду; тотально слизывая нестойкую помаду, Людмила косилась на него с непредвиденным уважением.
– Давно не виделись, Люда, – сказал Зоткин, – я страдал, ты плевалась. Ну и как тебе моя нынешняя внешность, устраивает?
– Классно выглядишь… Наклеил, наверно?
Потеребив усы, Виктор высокомерно усмехнулся.
– Глупо ты себя ведешь, Люда, – сказал он, – имей в виду: глупой жила, глупой и умрешь. Проверяй, если веры нет.
Проверяя, Людмила ради проформы несильно дернула Зоткина за усы, и они, оторвавшись, остались в ее ладони: бросив их в кусты, Людмила Голицына с Зоткиным – то ли с ехидным презрением, то ли презрительным ехидством, но не сходя с их заветного места – распрощалась.
– Твое право, Витя, таким образом попытаться, – сказала она, – но я не понимаю… Не понимаю, на что ты рассчитывал.
Ей было сложно его понять. Да что ей: Виктор Зоткин и сам там столбом простоял пока скорая не подобрала.
Четвертый день не дышишь. Но ты не сдаешься и решил попробовать еще раз? Ты затеял большое дело.
О ком это сказано? Не об одном Викторе Зоткине – изнадеявшись достичь материального достатка путем честного проживания отпущенных ему лет, экзальтированный приказчик Матвей Савельев похитил действительного статского советника Парамона Опухтина, запер его в подвале обветшалого дома своей тещи Марининой и, чтобы подтвердить всю серьезность совершаемого им деяния в расширившихся от ужаса зрачках получателей, запланировал отрезать у Парамона Опухтина левый мизинец и отослать данный обрубок его богатым родственникам. По почте – приложив к обрубку требование о выкупе и велеречивый наказ о строжайшем запрете беспокоить полицию.
В те времена, когда московский градоначальник И. Гудович срывал с ревизоров очки, поясняюще выкрикивая: «Не вглядываться! Нечего вам здесь так пристально разглядывать!», отрезанный палец являлся крайней редкостью, но, взяв пилу и подступив к связанному Опухтину с немалой жестокостью в намерениях, Матвей Савельев ни на что не решился. Изнемогая без домашних котлет и четко поставленной цели в жизни – мысли… думы… завихрения об отрезанном пальце его садняще не покидали, и Савельев, ранимое и богобоязненное существо, порешил отхватить свой и, претерпевая под штоф «Анисовой» страшные, неописуемые мучения, кривовато отпилил. Покорчился, вложил в конверт, забрызгал его кровью – ответа все нет. Матвею Савельеву без денег никак: постно… ущербно… потрогайте какая у меня бедная голова… моей невестой обладал Мудрец – приняв еще штоф, он избавил себя и от правого.
Читать дальше