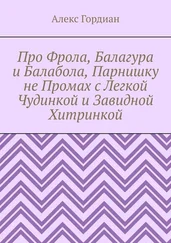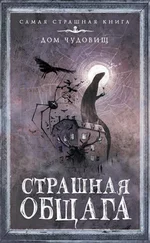Мне пришлось столкнуться с такими потрясающе осведомлёнными прохожими! Уж не проходила ли в тот день в этом городе всесоюзная конференция по спортивному ориентированию на местности? Подозрительно, что столько сразу знатоков родного города собрались в одном месте и в одно время. А может, семинар по теме «топографический кретинизм»? И мне как раз встретились спешащие на это мероприятие специалисты, практикующие именно в этой области. Как бы то ни было, в моём случае язык меня в буквальном смысле едва не довёл до Киева, вместо нужного института.
Помимо адреса, справочник указывал, какие экзамены сдавать, особые требования – а в театральный как раз много особых требований. Существовал и дресс-код (слова такого в моде тогда не было, но требования были). О нём в справочниках не писали, но все были в курсе, что, осмелившись штурмовать такой элитный профиль, надо себя соответственно подать.
Когда я окончательно определилась с выбором будущей профессии, а было это между 6 и 7 классами, то в 7-м же классе самостоятельно пошла и поступила в музыкальную школу, в класс домры-гитары. Отдельно гитары тогда почему-то не было. Учительница взяла несколько человек «возрастных», как я, в качестве эксперимента, только на гитару, без домры. В особых требованиях приёма в театральный институт значилось «владение каким-либо музыкальным инструментом».
До владения дело не дошло, ничему я толком не научилась, потому что дома не занималась, больше времени уделяла театральной студии, чтению, подружкам конечно. Учёба в основной школе у меня никогда не вызывала затруднений, всё училось само собой. А вот в музыкальной школе, само собой, всё уже не училось.
В своё время, когда учатся все остальные, то есть лет с семи, я в музыкальную школу идти наотрез отказалась. Взрослые собирались отдать меня в класс баяна. И всё, наверное, сложилось бы неплохо, если бы кто-то из знакомых не сказал в моём присутствии: «А что – правильно, хорошо! Отдавайте на баян. Будет играть на свадьбах. Всегда верный кусок хлеба». Подобная перспектива повергала меня в неописуемый ужас, и в «музыкалку» я не пошла. Семилетний ребёнок никак не видел себя баянистом, играющим на свадьбе.
А в театральный хотелось. Поэтому я сама по себе, одна (обычно детишек за ручку мамы приводят, но я-то была уже взрослая) пошла в музыкальную школу, прошла прослушивание, и меня взяли в 1-й класс. А поскольку учёба на этом отделении занимает 5 лет, а общеобразовательную я заканчивала через 4 года, то никакого документа из музыкальной я так и не получила, потому что год не доучилась.
И играть на гитаре или на чём-либо другом, кроме нервов, так и не умею. Впрочем, смогу, наверное, ударить в бубен. Или колокольчиком позвенеть. Живя в общаге, все друг от друга научаются пяти незыблемым гитарным аккордам. И этот стандартный общечеловеческий минимум я так же, как все, освоила, но не более того.
И что ещё любопытно: ни один и ни одна из моих знакомых, окончивших музыкальную школу по классу баяна, никогда, ни разу в жизни не играли на свадьбе. И что вообще уж интересно: с куском хлеба у них всё в порядке.
* * *
Но вернёмся к поиску института. Вообще говоря, это было уже моё второе шествие с чемоданом. Год назад я пыталась поступить не просто на театральное отделение, а собственно в отдельное театральное училище. И не поступила по такой идиотской причине, что просто караул! Я опоздала на экзамен. Не привыкла к ритмам большого города, не рассчитала время, поздно вышла из дома, очень долго полз трамвай, так что казалось – он не идёт вперёд, а пятится задом, и я опоздала. Жила тогда у очень дальних (и по крови, и по расстоянию) родственников, попросилась к ним на квартиру на время экзаменов, разумеется, с чемоданом. Благо – стеснила я их ненадолго, поскольку экзамен для меня случился всего один, и тот неудачный.
Это сейчас я отлично понимаю, что всё случившееся оказалось к лучшему. А тогда была, естественно, в растрёпанных чувствах. Подбежала к дверям аудитории и поняла, что экзамен уже идёт. Входить было нельзя категорически. Слёз не было. Ну, так, чтобы при всех. Но озадаченность некая в лице, видимо, была. А неизменная традиция театральных ВУЗов – присутствие между абитуриентами студентов старших курсов. Подошли и ко мне двое, местные Станиславский и Немирович-Данченко. Но от Фроси у меня был только чемодан, причём в данный момент оный оставался у родственников. Так что, в отличие от Бурлаковой, я была в курсе, когда умерли два знаменитых режиссёра. Но «выступать» мне всё-таки пришлось. Только перед настоящей комиссией. Старшекурсники после окончания экзамена, на который я опоздала, впёрлись в аудиторию и договорились с преподавателями, чтобы те меня посмотрели просто так, уже не в рамках приёма на этот год, а на перспективу, стоит ли мне вообще идти в театр.
Читать дальше
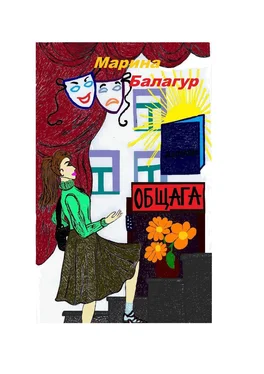


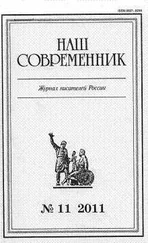

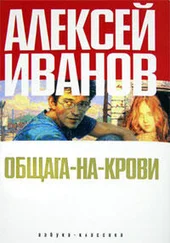
![Александр Матюхин - Страшная общага [litres]](/books/405357/aleksandr-matyuhin-strashnaya-obchaga-litres-thumb.webp)