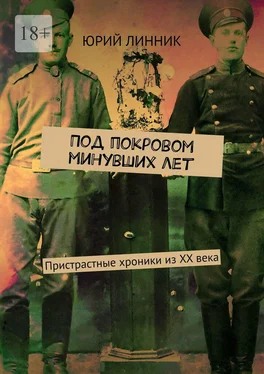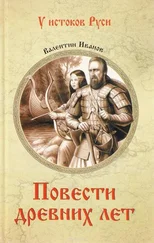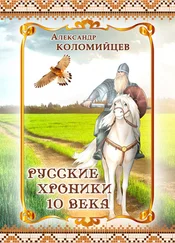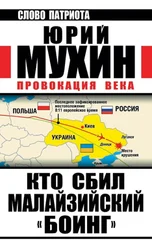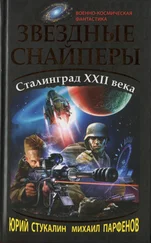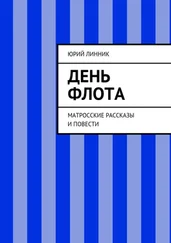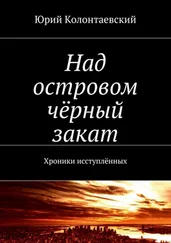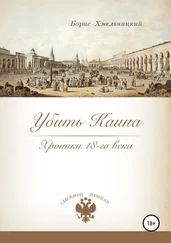Немалую долю населения Мелитопольского уезда в начале 19 века составляли ногайцы, татарское население южно-русских степей, получивших название от известного татарского темника Ногая. Предпринимались неоднократные попытки привести к оседлости и земледелию ногайские роды. Им раздавали хлебные семена и земельные наделы.
Дело доходило до того, что однажды пристав ногайцев, французский эмигрант граф де Мезон, в приступе служебного усердия или отчаяния, приказал сжечь кибитки ногайцев, чтобы принудить их оседлому образу жизни. В 1831 году был даже основан город Ногайск, как административный центр ногайских племён. Но сколько волка ни корми, он в лес смотрит. К 60-десятым годам 19 века все они ушли в Турцию и обосновались в Малой Азии.
* * *
В 1783 году на берегах реки Токмак при впадении в неё реки Сысыкулак государственными крестьянами – переселенцами из Черниговщины было основано село Черниговка – малая родина моего деда, Парфентия Захаровича Линника (19.12.1886 – 2.10.1970) и моего отца Петра Парфентьевича Линника (27.04.1921 – 21.07.1990).
Вероятно, и дед, и отец Парфентия Линника родились в Черниговке. Отец его Захар Линник – в первой половине 50-десятых годов, дед – в двадцатых годах 19 столетия. А вот прадед Парфентия, который предположительно родился 1790—1800 гг. (в 1806 году в Черниговке проживало 2078 чел), возможно, пришёл на эти земли ребёнком с родителями.
Откуда они пришли – неизвестно, быть может, с Черниговщины вместе с основателями Черниговки, может статься – с Запорожской сечи, разогнанной Россией. Фамилия Линник, кстати, фигурирует в документах запорожского казачества. Вполне возможно, также, что черниговские Линники, имели корни на Полтавщине, где ещё в двадцатые годы прошлого столетия жили какие-то родственники, с которыми поддерживались отношения.
Эта версия подтверждается эффектом родовой памяти, который мне пришлось испытать на себе В 2007 году. По делу службы, мне пришлось посетить Полтавщину, где дотоле бывать не приходилось никогда. На машине я объехал окрестные сёла Миргорода, включая Сорочинцы, и места те мне показались до боли знакомыми и родными. Ощущение чего-то родного не покидало меня, пока я сам не покинул эти прекрасные места.
Определённого ответа на эти вопросы получить сегодня невозможно. Одно ясно, все мои предки по черниговской линии – украинцы, ибо фамилия Линник это нередкая украинская фамилия, особо распространённая в Полтавской области.
Впрочем, Интернет – всезнайка уточняет, что фамилия Линник также белорусская и, даже еврейская. Ничего не имея против того, чтобы евреи носили фамилию «Линник» и премного уважая их за удивительную историю, Ветхий завет и таланты, не открою секрета, если скажу что, евреи живут и под фамилией «Иванов» и т. д.
* * *
Итак, девятнадцатого декабря 1886 года в Черниговке в семье крестьянина Захара и Екатерины Игнатьевны Линник родился второй сын, Парфентий. Всего в семье росли пятеро детей – старший Захар, средний Парфентий, младший Яков и дочери Мария и Евдокия.
Семья жила небогато, но не беднее соседей. Положение ухудшилось, когда главу семьи, Захара убила лошадь немца-колониста, в конюшне которого он подрабатывал в зимнее время.

В центре Екатерина Игнатьевна Линник. Слева: Яков Захарович Линник. Справа сидит: Жена Якова с сыном Владимиром. 1923 год
Екатерина Игнатьевна (ориент. 1860 г.р.) осталась вдовой с пятерыми детьми на руках. Осталась единственная фотография, донёсшая до нас образ моей прабабушки. Высокая, крупная, женщина со строгим проницательным взглядом. Обладала даром знахарства и пользовалась заслуженным авторитетом на этом поприще. Высокий рост Екатерины Игнатьевны передаётся по линиям братьев Линник – Захара, Парфентия, Якова.
После трагической смерти Захара семья осталась без кормильца, и с ранних лет братьям приходилось работать и в поле и в домашнем хозяйстве. Тем не менее, Парфентий всё таки окончил два класса церковно-приходской школы, научился читать, писать и считать.
До середины 90-х годов сохранялся дом, в котором жили Захар и Екатерина Линники. Достался ли он от отца Захара, или Захар его построил для своей семьи неизвестно.
В этом доме родились их дети, а потом и внуки. Дом глинобитный, в плане вытянут в длину на десять метров, в ширину около пяти. Стены невысокие, не более трёх метров. Крыша высокая, около – 4-х метров до конька, четырёхскатная, крытая камышом. На полатях, по—видимому, хранилось сено и зерно. Две третьих дома использовалось как жилое помещение, оставшаяся часть – для молодняка домашней скотины и птицы.
Читать дальше