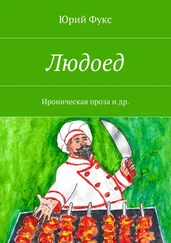Белые плафоны люстры, как мне казалось с уровня микроба, потемнели у самого темечка. Я задумался, что надо бы взять за правило генералить чаще раза в месяц, но отступился, догнав, что я никакой не генерал, а потому будучи рядовым, имею необходимость обходиться малым, коль до верхов не дорос и намерением к росту не обладал. Это касалось и расшатавшейся дверной ручки туалетного трио: душевой, раковины и унитаза. Инструмент, конечно, имелся под рукой, он был аккуратно упакован в пупырчатую защиту и спрятан в одну из коробочек, в которых я хранил подобного рода вещи. Но после ремонта таких коробочек в моем распоряжении имелось около пятнадцати, и потому, сознательно лишая себя радости и азарта розыскных работ, я не прикасался к этим картонным гробикам, лишь изредка поглядывая под кухонный гарнитур и уже поломанную мной барную стойку; силясь воспрепятствовать вероятности в один день застрять в уборной и стать свободным лишь выломав дверь, обошедшуюся мне в крупную сумму.
Внезапно, как и каждый раз до этого, встрепенулся холодильник и, прогудев привычную мелодию, видимо простыв, втянул в себя жижу и, смачно схаркнув, заглох. Он был смертельно стар, хотя документально считывался моим ровесником. Я не мог бросить этого деда, и потому без тени принуждения, подтирал за ним и приводил в чистоту, отмывая, отбивая лед и проветривая. Он хранил для меня воду и пищу – фундамент моего существования, ощущаясь более родным, чем мое собственное отражение и, как было вшито в подкорку еще при рождении, я держался рядом, потому что бессовестно оставлять близких. Я так и звал его «дед», изредка пробуждаясь и ворча на него просьбой перевернуться и перестать храпеть.
Колотящая дрожь, наконец, отступила. Моя серая клетка, потянувшись, раздвинула прутья. Я сонным караульным вертел взгляд, тужась сообразить, где опаснее всего: за пределами этой клетки или в ее чреве?
Наслушавшись оглушающей тишины до головной боли, я испытал поразительное облегчение, когда до меня донеслось карканье соседского радиоприемника. Эта мелодичная циркулярная пила доставляла массу неудовольствия по выходным, но в беспробудные будни, заслышав этот зубосводящий свист, я радовался, что не мне одному было предписано вариться в тягостности бессмысленных в планетарном масштабе действий.
Стены отступили. Лениво потянувшись, я обнаружил, что минуты уже спешили к седьмому часу и, окрепнув телом, принялся собираться на работу, на встречу с одной из тех зубоскальных высоток, схоронивших меня на первых этажах, защищая от пороков карьеры. Другие – карьерные отростки, мотающиеся с этажа на этаж в скрипящих металлических коробках, целеустремленные, подобно моему мизинцу, старательно рвали матку времени, пытаясь прорости сквозь асфальт. Но, не понимая того, что слишком сложны и прихотливы для этого, упирались бошками в потолок, натирая залысины.
Мой старый добрый друг был таким же. Изнуряя себя тяготами самосовершенствования, он стирал в кровь душу, дабы преодолеть непосильный сантиметр на пути к мечте, отдаленной от него световыми годами. Эта беспощадная борьба с собственными слабостями превращала его в ревностного поборника добродетели, но только до тех пор, пока смертельна усталость не валила его на колени, что помогало мне найти с ним хоть какие-то точки соприкосновения, поскольку иметь дело с хлоркой, коей он был в дни, особенно боевые, я не мог и совершенно не хотел. Благо – если так можно выразиться – он с возрастом поумерил пыл и сделался мылом, – тоже неприятно, но временами даже полезно. Я – другое дело. Я – тело, в режиме сохранения энергии или того, что от нее осталось. Можно сказать, что я тело, в режиме сохранения воспоминаний об энергии – тоже процесс трудоемкий и, признаться честно, морально тягостный.
К моим годам у родителей было уже двое детей. Я к своим, встретив единственного ребенка – младшего брата из армии, с чистой совестью о детях позабыл. Дети – большая ответственность, должно быть наделенным интеллектом и практически проверенной моралью, чтобы взрастить приличного человека, а выплюнуть в мир еще одного такого, как я, было бы крайне тупо. Я, конечно дурак, но не тупой. И сколько бы мой старый добрый друг не сверил мне затылок своими уютными идеями о семье, мне такой уют казался не в пору, он жал в плечах и совершенно не был мне к лицу. Кто-то в свои тридцать строил дома, кто-то компании, я же строил себе склеп из поломанных хребтов, будучи особью прямой и в волнении косноязычной, и был этим доволен, иногда не совсем, но зачастую в полной мере.
Читать дальше