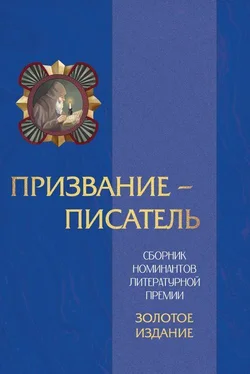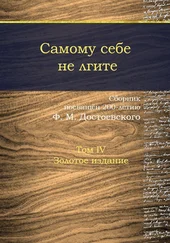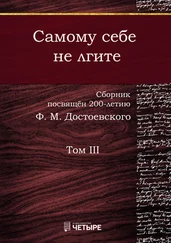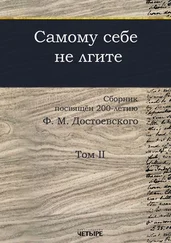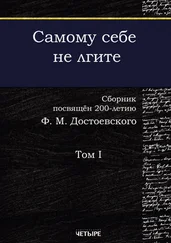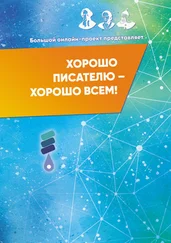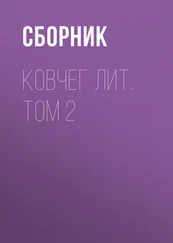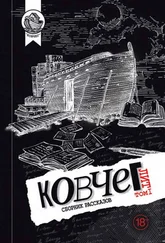Маше трудно было не подчиниться. Высокая, крупная, она своим командирским голосом умела заставить не только парней, но и матёрых мужиков уважать себя и слушаться.
Оказалось, что семью новгородца убили каратели, эсэсовцы-латыши, а сам он уцелел чудом. Перед самым их появлением в другую деревню поехал, к куму.
– Мне потом уже люди сказали. Они в Жестяной Горке жили, а когда всё началось, так на заимку, в лес перебрались. А в Жестяную Горку изо всей, почитай, округи свозили, там и расстреливали. Думали – немцы, а немцев тех только два начальника и было, а стреляли латыши. Наши-то, деревенские, сначала не поняли, только слышат – не германцы это, по-другому говорят. А по-какому? Ну и один мужик, он латышей по гражданской знал, догадался: латыши. Вот так и моих из дома взяли, и туда же, на снег. Говорят, патроны жалели. Или штыком заколют, а ежели дитё – лопатой по голове, – с трудом сдерживая готовый вырваться плач, рассказывал санитар.
– Что-то уж чересчур страшно, – недоверчиво произнесла Маша. – Лопатой, детей… Да за что? Они-то что сделали?
– А мы разве думали, что нас тронут?.. Поначалу только евреев малость, которых в наших краях отыскали, да цыган, да ещё коммунистов расстреливали. А потом пошло… И партизан, и пленных, и таких вот, как мои, ни к чему не причастных, а только из-за сына моего, который на фронте… – всхлипнул рассказчик. – Эх, да что там!.. Говорили, даже дьякона с попом прямо в церкви пристрелили. Вроде как они партизанам помогали. И всё эти самые, латыши, – взглянул он на Михаэля, словно ожидая его реакции, – волки лютые…
– Ну не все же, – сказал Михаэль. После того, как его чуть не задушили, он с трудом говорил. – Я вот с латышами вместе под Таллином был. И под Москвой. Недалеко от нас, под Старой Руссой, целая дивизия воюет.
– Насчёт этих не знаю, – угрюмо и по-прежнему зло процедил мужик, – а что те творили, люди сами видели. Они врать не будут. Воюют, говоришь?.. Ну да! А Настасья моя?! А сноха?! А внучата?! Они где?! Сынок единственный у меня остался. С войны вернётся – что я ему скажу?..
Михаэль не знал, что ответить. У старика горе, но онто здесь при чём? Михаэль готовился объяснить, что он не латыш, что таких, как он, убивают первыми, но вмешалась Клава.
– Ты, отец, разберись сначала, потом кулаками действуй. Что ты к комиссару с латышами прицепился? Он за них не отвечает. Он хоть из Латвии, но еврей. Всю его семью фашисты в заключении держат.
– Евре-е-й? – с плохо скрытым сомнением протянул санитар. – Ну, тогда извиняйте, ежели другое подумал. Ведь это как?.. Чуть вздремнёшь, тут же кошмары мерещатся. Сил уже нет… А вы того – не говорите никому, ребята, ладно? Ошибся я…
Казалось, инцидент был исчерпан, но вечером, проходя мимо палатки, в которой ютились санитары, Михаэль услышал негромкий разговор:
– Слышь, Николай, а мальчишка этот, политрук… еврейчик, оказывается. А я за латыша его принял. Вот нескладу-ха. Самому теперь стыдно. Поговорю с ним завтра душевно, по-доброму.
– Вот-вот, поговори, – отвечал невидимый Николай, – извинения попроси у жидёнка, а то придут за тобой – ахнуть не успеешь. Ничего, что мы в дерьме, – особисты не дремлют. А молокосос этот, комиссаром назначенный, устроился – мама не горюй! Медсестричка эта, Клава, – краля его. А ты и не догадывался. Ихняя нация…
– Ну чего ты, Коля, заладил? При чём тут нация? Хочешь знать, там, у Жестяной Горки, и евреев убивали. С моими вместе закопаны. Это как?..
– Давай, пусти слезу! Простота новгородская! Не знаешь ты их, а я повидал. Ладно, пойду. Спасибо за горючее. Подзаправился.
«Спиртом поделился, – подумал Михаэль о санитаре, – а где достал? Ведь каждая капля на учёте…»
Тот, которого звали Николаем, вышел из палатки, и Михаэль узнал сержанта, которого не раз уже видел в медсанбате. По-видимому, сержант ухлёстывал за какой-то молодой санитаркой и на этой почве познакомился со своим собеседником. «Не пущу его больше сюда, – решил Михаэль. – Сразу надо было выставить».
Приняв решение, он пошёл дальше. Его ждала Клава, но неприятный осадок, оставшийся после слов Николая, давил словно камень и напоминал, что не все тут свои. «Нет, – убеждал себя Михаэль, – большинство не такие».
А какие?.. Такие, как Клава?.. Как Бобровников, как непростой в своём отношении к евреям, но спасший ему жизнь и опекающий его теперь Игнатьев?.. Или такие, как Маша, как желтолицый больной комиссар Шевцов, убитый несколько дней тому назад, как многие из тех, с кем сегодня приходится жить, а завтра с большой долей вероятности – умирать?..
Читать дальше