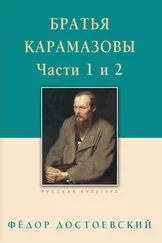Внезапно захотелось сладкого. Варенья с белым хлебом или халвы. Он поискал глазами буфет… Так что же надо сделать? Ах, да. Нужно было… Кто-то говорил, что нужно быть уверенным в первой фразе, и тогда она, как кошка, встанет на все четыре лапы. Первая фраза, первая мысль всегда цепляется за какую-нибудь случайность, за какую-нибудь подробность, значит, нужно сориентироваться, нужно найти точку опоры в хаосе мыслей, потому что всякая мысль держится за некую скрытую в ней деталь, а эта деталь, в свой черед, кроется в том, что необходимо вспомнить, особенно, если воспоминание принадлежит другим персонажам или… или вещам.
Значит, во-первых, следует спокойно восстановить последовательность, разомкнуть цепь событий и соединить ее деталями, воспоминаниями… какими?.. какими угодно, и начать, допустим, с того, что когда отец Гаэтано…
***
…когда отец Гаэтано вызвал его к себе и поинтересовался, знаком ли ему некий сеньор Умберто Манчини, а затем протянул бумагу с адресом, по которому располагается мастерская, повеяло нехорошим предчувствием. У нехорошего предчувствия с детства знакомый, отчетливый медицинский запах: запах ангины, ночного бреда, горячего молока с медом и горчичников. У Трофимова сразу по-звериному напряглись и шевельнулись уши.
– …У него к вам какое-то срочное дело, просил не медлить ни секунды. Впрочем, странно, что вы с ним не знакомы… Синьор Манчини – обыкновенный учитель рисования, в школе преподает, но считает себя живописцем, и неплохим. Правда, несколько со странностями. Все художники не без этого. Но, однако ж, капеллу нашу именно он дописал. И еще… Я, Владимир, подготовил вам рекомендательное письмо… И вот еще: ваши накопления за все это время. Держите. Не знаю, из чего вы исходили, доверив мне удерживать большую часть вашего жалованья, но теперь, полагаю, оно вам пригодится. Полагаю также, что здесь вас ничего более не держит… Поэтому там еще ровно две тысячи в швейцарских франках. Некоторая часть от гонорара за мою… за нашу книгу. Вот: я подписал вам экземпляр.
– Право, падре, не знаю, как вам отказать, чтобы вы не приняли это за оскорбление…
– Не обсуждается. Если бы не вы, пришлось бы нанимать секретаря, корректора… Не обсуждается! И… двери этой обители всегда – вы хорошо запомнили? – всегда для вас открыты. Даже когда меня здесь… ну, вы понимаете…
Отец Гаэтано, совсем седой, сухонький и по-мальчишески стройный, провел краями конверта по своему безволосому, никогда не знавшим бритвы подбородку, будто соскабливая остатки ответственности за подопечного. Будущность которого он вылепил буквально из ничего.
В общении с ним Трофимов всегда испытывал чувство некоторой неловкости. Будто это не он, двадцативосьмилетний детина из дремучих лесов России, – а ее, в свою очередь во всех австрийских газетах изображали косолапым чудовищем в колпаке, шароварах и разношенных сапожищах, – не он, а падре Гаэтано был церковным сторожем, переписчиком, садовником, мусорщиком и Бог весть еще кем.
Пять лет назад Гаэтано Айзеншмит в два часа ночи принял его, провонявшего вокзалами и чесночной колбасой, без лишних расспросов. Отвел в комнатку на втором этаже церковного флигеля, где раньше томилась и тихо отошла в мир иной его полоумная сестра, напоил крепким бульоном и даже не попросил предъявить матушкины рекомендации. Просто внимательно осмотрел его лицо, снизу вверх, словно ощупал подушечками пальцев, как слепой. Посмотрел так же точно ласково и застенчиво, как и теперь, протягивая ему пакет с документами.
Общались они, впрочем, крайне редко. Все пять лет Трофимов исправно постригал розы, высаживал какие-то цветы, которые падре, причем все до единого, именовал петуниями, убирал сухие, почти жестяные листья магнолии со двора, протирал мраморные скамейки, чистил крошечный фонтанчик с изъеденной временем и влагой фигуркой Девы Марии, вел кое-какую корреспонденцию касательно сношений с двумя пароккиями, готовил выписки для книги, совершенствуя итальянский и пытаясь выучиться романшскому языку, потому что это был родной язык падре Гаэтано.
Сам Трофимов уважал себя за то, что немецкий прилип к нему как-то сразу, вдруг и безболезненно: в гимназии, откуда его отчислили за неуспеваемость, у него была страстная любовь к соседской девочке из приличной семьи, Доре Виттель, отец которой заведовал сразу двумя училищами, реальным и художественным, и уговорил папеньку Трофимова, служившего на железной дороге начальником вокзала, маленького, деревянного и не отапливаемого, отдать отпрыска по части книжного переплета и орнамента.
Читать дальше

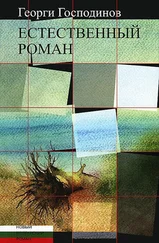



![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)