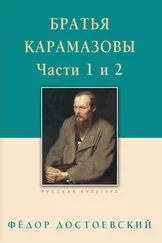– Откройся теперь.
– Ты не готов… Поверь, я забочусь не о себе. Обо мне есть, кому позаботиться сейчас, и будет кому позаботиться после. Я, друг мой, пекусь о тебе. Ты должен обучиться мгновенно отличать и узнавать женщин, подобных мне – а такие тебе, возможно, еще попадутся… – от тех, кого следует опекать тебе. Что ты можешь предложить такой женщине, как я? Любовь? А когда у меня на ногах вздуются вены, начнут крошиться и вылезать зубы, кожа вот на этой шее повиснет лохмотьями, как у черепахи?.. Деньги? Слава? Власть? Могущество? У тебя этого не будет никогда. Тебе уютнее в захолустье и в собственных мечтах о себе самом. Ты всегда будешь стоять на тротуаре и провожать глазами автомобиль с откидным верхом, в котором еду я. Ты хоть раз ездил в автомобиле с откидным верхом? Знаешь что-нибудь о двигателе внутреннего сгорания?..Поэтому, просто запомни эти два часа, и положи их, как закладку, в томик своей памяти, и изредка перечитывай эту страничку.»
Она затушила о подоконник папиросу, и окурком написала на стекле: Adelina. Затем сдвинула шторы, накинула на плечи его рубашку, сунула крохотные ступни в свои несколько турецкого вида туфельки, улыбнулась, опустилась, широким жестом закинув ногу на ногу, в низкое кресло без подлокотников, округлив бедро, и зажгла новую папиросу, но курить не стала:
– Скажи мне, Трофимофф! Ты можешь соединить иероглиф со слоговым письмом?
– Нет…
– А вот японец может. Потому что он – японец. А ты – Трофимофф.»
Она впитывала его в себя своим неподвижным африканским взглядом и вся, от узкой лодыжки до волнообразного изгиба, была словно спелый тропический плод цвета густого липового меда:
– Ты даже не знаешь, как цветет умэ…
– Зато я знаю, что такое умёт. Во мне, как и во всяком русском человеке… впрочем, теперь уже непонятно, что такое настоящий русский человек и существует ли он вообще.
– И поэтому ты не можешь соединить иероглиф со слоговым письмом?
– В уме?
– Попробуй. Если ты, все-таки, не совсем Трофимофф.
Она полулежала в его старом низком, с гнутыми подлокотниками кресле, обитом когда-то чем-то неуловимо восточным; на ее бедре играл рисунок топленого солнца из-за щербинки в малиновых толстых шторах, с большого пальца свисала вышитая бисером туфля без задника, покачиваясь как кокон бабочки- капустницы на листе настурции, и каждая бисеринка сверлила своим безжизненным взглядом.
Он смотрел, как раскачивается бисерный маятник на ее ступне, делаясь все крупнее, подробнее, и чувствовал как покалывает кожу лица ее взгляд, ее глаза, каждый из которых был словно написанный маслом фон какого-нибудь из портретов позднего Рембрандта с Хендрикье, отлученной от святого причастия.
– Ты даже не знаешь, как цвете умэ. И что такое ханами тоже не знаешь.
– По крайней мере, не должен…
– Потому что не читал Бонцо, а между тем…
Она говорила. Говорила про умэ, про три благородных цветка и три благородных растения, описывая каждый цветок, его природу, время цветения и тайные смыслы. Она выкачивала из него воздух словами, фразами, междометиями, паузами и шепотом, похожим на пение.
А он представлял, как она парит под потолком, и сквозняк лениво шевелит розовый шелк, влипший в ее бедра, как медленно вращается ее ступня вот в этой вышитой бисером туфле, показывая загнутым носочком на четверть второго пополудни.
Он не читал Бонцо, не видел цветения умэ, не вкусил прелести укиё-э и ему понятнее была прелесть моченых яблок, чем какое-то там печальное очарование вещей.
…А вот теперь – он осторожно прикрыл за собою дверь, нежно клацнув замком – теперь она и вправду под потолком. У окна. На крюке, где прежде висела огромная конусообразная клетка: теперь ее редких прутьев почти касались крохотные ступни во все тех же турецких туфлях.
В клетке, должно быть, когда-то жил большой, похожий на индюка попугай с математическим складом ума.
Трофимову клетка понравилась. В ней хорошо бы сейчас запереться, свернуться калачиком и вспоминать, потому что надо вспомнить, что обыкновенно делают в таких случаях. Бегут в полицию, стучат в двери соседям, распахивают окно и орут: «Караул!»? Но орать «караул» как-то неприлично, недостойно как-то, он же не в Татарской слободе, не пожар, никого не зарезали… А здесь у окна под полком просто стоит в воздухе красивая женщина… И это все-таки Бонцо, какой же тут может быть «караул»…
Если бы он увидел ее в чистом поле, где-нибудь на станции или в чапыжнике на большой дороге, прошел бы мимо: трупы вдоль обочин тогда были частью пейзажа, а здесь… Надо взять себя в руки. В какие руки? Как? Все обдумать и осмотреться. Что обдумывать? И с какого места осматриваться?..
Читать дальше

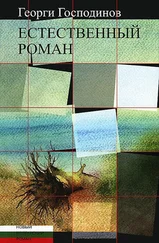



![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)