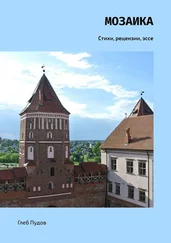Горит, раздраженная тихой строкой,
бесслезная дева-душа,
а где-то Господь сквозь вселенский покой
бредет и бредет, не спеша…
Санкт-Петербург
Епископ в гневе: толстые поленья
набухли, и парижская толпа,
что плещется, как море, у столпа,
застыла вдруг в единое мгновенье.
Среди нее по воле Провиденья
(какой жестокой может быть судьба!)
темнеет куртка юного раба,
судом приговоренного к сожженью.
Хохочут сверху злобные гаргульи,
гудит народ, как будто пчелы в улье, —
монахи оглашают приговор:
он – еретик, и Бог тому Свидетель;
святая инквизиция за вздор
его заставит жизнию ответить!..
Горит костер на площади в Толедо,
на стенах теплых – теней хороводы,
и небо словно золотистым пледом
покрыло свои бархатные своды.
Пылают книги и за ними следом
пылает память о поэмах, одах,
о всех трактатах, коим Бог неведом,
всех возмутительных научных сводах.
Господь велик! Простит в мгновенье ока;
Отец всегда детей своих прощает,
пусть даже велики их прегрешенья.
Но церкви чужды эти отношенья:
грехи, как львов, всемерно укрощая,
бороться будет с ересью жестоко!..
Старинный замок. В гулких коридорах
висит, как паутина, тишина;
паук плетет на каменном просторе
узоры летаргического сна.
Но что это? В одном забытом зале
горит огнем доверчивым камин.
Седой старик, задумчив и печален,
сидит средь фолиантов и картин.
И в памяти, как тени, проплывают
сражения, соборы, короли…
Затихло все, как песня боевая,
как музыка, угасшая вдали.
Неужто стало сном все это ныне
и канет в одиночества пустыне?
Санкт-Петербург
Привычно глупая луна
по небосводу волочится,
глядит на тех, кто в дебрях сна
меняет судьбы, позы, лица.
Все маски сняты – люди ей
видны, как будто на ладони:
кто был герой – тот стал злодей,
кто в лодке плыл – тот сразу тонет.
Чуть позже мудрая луна
уступит солнцу неба своды;
и снова будет не видна
та правда, что страшит народы.
«Мгновенья не тратя, ко мне приближается смерть…»
Мгновенья не тратя, ко мне приближается смерть,
сквозь годы неспешно идет эта черная дева.
Оставит ли время на мир мне еще посмотреть
иль явится скоро в величии Божьего гнева?
А я помещен Провиденьем в чужую судьбу,
мгновения трачу на чуждые мысли и чувства.
«Ну что же, старик», – размышляю порой на бегу,
«прожить за другого – и в этом есть тоже искусство».
И все же, когда она явится, тихая смерть, —
с собою меня заберет, а не вовсе другого…
Зачем же на мир не своими глазами смотреть?
За чьи же проступки судить меня будут сурово?
Санкт-Петербург
Что ж… Обречен я на тонны бумаги,
густо покрытой танцующим почерком.
Буду сидеть, как индийские маги, —
душу дробить на романы и очерки;
мир забывать, словно сумку в трамвае,
и увлеченно беседовать с мертвыми.
Люди меня назовут шалопаем
к делу негодным и малым увертливым.
Так проживу запятой незаметной,
где-то вдали от событий пылающих.
Впрочем, порою и в хляби сонетной
можно казаться весьма вызывающим.
Поэты многие поют
рассветы и закаты, —
психологический уют
всегда был очень кстати.
Писать про бабочек? Могу.
Зато про жизнь – честнее.
Лишь ей хорошую строку
отдам я, не краснея.
Екатеринбург
Заросшие снегом больные деревни
скрипят на холодном ветру:
кресты и березы на кладбище древнем
пеняют на злую пургу.
В пустующей церкви голодные птицы
на тусклые фрески глядят;
теперь только ветер приходит молиться
на черных святителей ряд.
По узкой дороге бредет горемыка,
одетый в овчинный тулуп.
Не слышит несчастный медвежьего рыка —
медведя, что ловок и глуп.
Кресты и березы на кладбище древнем
пеняют порой на судьбу,
а рядом лежит, под ветвями деревьев,
крестьянин с дырою во лбу.
Киров
Мне не страшно и не больно —
я, возможно, постарел.
Словно узник из Стокгольма —
тот, что любит свой удел.
Читать дальше