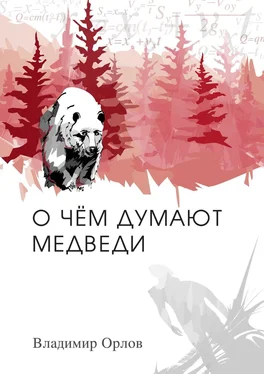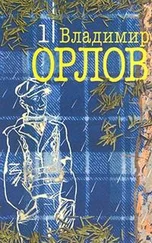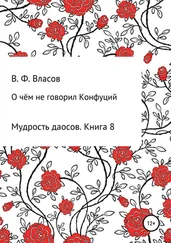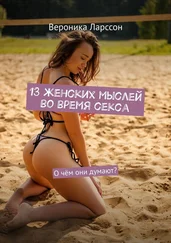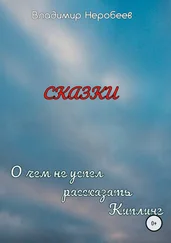До пяти лет я делил комнату и все, что в ней было, со своей старшей сестрой: полки, ящички, домики с флоксовыми животными и какие-то диковинные развивающие игрушки для девочек, в которые мне не разрешали играть. Когда моя сестра переехала в другую комнату, забрала часть игрушечного арсенала и все свои секретные альбомы с наклейками, рисунками, зеркальными надписями и непонятными символами – для меня в детской все сразу потеряло смысл. Я перестал там играть и пережил свой первый настоящий глубокий приступ апатии. Потом я перенес все свои игры к дверям ее комнаты: строил из конструктора многоэтажки и многоуровневые развязки, чтобы ей было труднее через них перелезать. Что из этого получилось? Сестру пару раз наказали за то, что она ломает мои постройки, а потом весь мой конструктор сложили в большой пластиковый мешок и спрятали в гараже.
С сестры все и началось. Иногда она просто исчезала. Не уходила в другую комнату, не выскакивала на балкон, не пропадала за открытой дверцей платяного шкафа, не протискивалась между одеждой и коробками в гардеробной, как это делал я. Я продолжал говорить с ней через дверь, отвечая на какую-то ее реплику, и не находил ее в комнате или в любом другом месте, откуда слышался ее голос. Сестры не было нигде.
Я несколько раз пытался получить у нее объяснения по поводу ее дематериализаций, она только смеялась, дурачилась и отвлекала меня смешными дразнилками. Я думаю, сестра уже тогда училась скрываться, запутывать следы и отрабатывала это на мне.
За месяц до моего девятилетия она исчезла насовсем, ушла в поход с одноклассниками и не вернулась. Собственно, она использовала эту загородную прогулку, чтобы сбежать из дома. Два или три года она отправляла родителям открытки из мест, где ее нельзя было отследить, и как-то однажды рано утром даже позвонила домой и долго разговаривала с кем-то из взрослых. Признаться, я не испытал особой горечи, когда она пропала, я сразу принял это как должное и никогда не объяснял себе почему. Мне казалось вполне естественным, что ее не стало, что она мигрировала в какой-то иной, недосягаемый уголок Земли.
Я всегда держал в голове, что она жива и у нее все в порядке, в отличие от тех, кого она оставила. И что она никогда не вспоминает о нас, потому что ее новая жизнь куда интересней и насыщенней прежней. Ее воспоминания о нашей совместной семейной жизни должны были быть невыносимыми, ведь в наших отношениях не было ничего, кроме раздражения, криков и взаимных обид. И дело ведь было не в родителях: она почувствовала себя по-настоящему свободной, как только избавилась от своего младшего брата. Вдали от меня за нее не стоило переживать.
Я не скучал по сестре, но чувствовал сожаление. Отстраненное сожаление само по себе, без повода. Как будто потерял что-то важное, но забыл, что именно. Конечно, без нее я очень скоро затерялся и осиротел. Родители, пока были со мной, как могли заполняли этот вакуум, но, по ощущениям, я и глазом не успел моргнуть, как остался совершенно один. И было так естественно, что она не пришла мне на помощь. Как я догадывался – вовсе не потому, что ей было не до меня в тот момент. Что-то лежало между нами, не позволявшее когда-нибудь снова стать братом и сестрой. А мне так не хватало ее реакции на мою обидчивость, мое высокомерие и мои непомерные амбиции в четырнадцать. Но в этом было и мое везение: я научился со всем справляться самостоятельно. Я убедил себя, что это самый крупный приз, полученный мною в жизни, за который надо сказать спасибо моей звезде. Все равно иной раз мне хотелось показать кому-то, чего я достиг без посторонней помощи. Своим бегством сестра лишила меня единственной родной фанатки, которых у моих друзей было в избытке – мамы, бабушки, двоюродные сестры – и к кому я их страшно ревновал. Пока не понял, что она наградила меня недоступным преимуществом перед всеми, кто жил ради чужого одобрения.
У меня даже появилась теория, что у каждого парня должна быть сестра, без которой ему не состояться, – девчонка из детства, постарше, которая бы опекала и мучила его, или помладше, которую бы он защищал и учил материться. Чтобы он ни на минуту не забывал, что эта неблагодарная эгоистка где-то живет, не тужит, и он ей всем обязан.
Но моя настоящая история началась намного раньше. Сразу, как родился, я принялся за дело: стал придумывать игры, в которые стал вовлекать всех окружающих, часто помимо их воли, мысленно заставляя их принимать одни вещи за другие. Детские психологи сказали бы, что это невозможно, но начинал-то я с самого простого – с покусывания материнской груди – все младенцы делают это. Чем дальше, тем мои игры становились все более рискованными. Никаких правил не было: я мог вторгаться в природу любой вещи, на которую бы ни посмотрел, меняя ее значение. Ближе к половому созреванию мои игровые медитации начали становиться навязчивыми.
Читать дальше