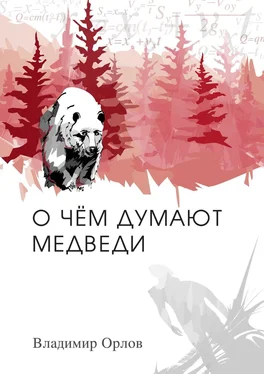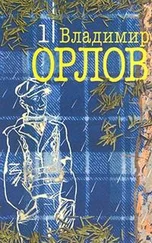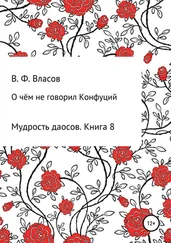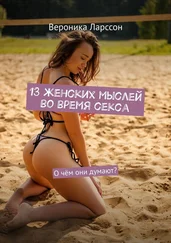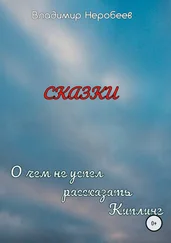В то время для меня не было ничего важнее науки, и без царящего вокруг экспериментального безумия не было бы этой истории, и все же по-настоящему эта повесть – о моей семье. Хотя я и проделал большую часть своего пути как одиночка, вынужденный полагаться лишь на самого себя.
Мой отец всю жизнь занимался изучением медведей. Это называлось териологией. Хотя вроде бы эта дисциплина относилась ко всем млекопитающим. В фольклоре медведь считался магически преображенным человеком, или лесным богом, или потусторонней сущностью в его образе. В медведя обращался сват, или тесть на свадьбе, или грубый разгневанный сосед, что выяснялось только после убийства животного. Мало того что это был гротескный персонаж, воплощение экспрессии, похоти, дикой взрывной силы и простых эмоций, он был еще и «богом из машины» – во многих сказках он решал исход дела. Если рассказчик не знал, как закончить историю, он звал медведя. Приходил медведь, всему зверью пригнетыш, тут сказке и наступал конец, а кто слушал – по-любому становился молодец. Я и подумать не мог, что попаду в похожую историю.
Ту же роль медведь играл в живой природе – на нем заканчивалось большинство пищевых цепочек, только мне не хотелось в это вникать. Я был сыт по горло отцовской наукой, которая меня окружала и то и дело вторгалась в мою жизнь двадцать лет кряду. Все эти сползающие с заваленных столов стопки рабочих тетрадей, альбомы с зарисовками и фотографиями, которые служили материалом для моих построек, иногда я их пролистывал без всякого интереса. Настроение этих дней мог бы передать запах неугомонных бородатых медведеведов в бесформенных свитерах, сидевших с отцом на кухне глубоко за полночь и вполголоса обсуждающих историю очередной медведицы-перебежчицы, с выводком перебравшейся в соседний заказник. Их громкий шепот и неожиданные восклицания будили нас с сестрой, после чего наша детская превращалась в самое оживленное место в доме, и нас приходилось заново укладывать.
В нашей с сестрой комнате на полке среди игрушек стоял трехтомник «Очерков по этологии медвежьих», авторы Маслицын, Филисов, Торнин. В кабинете «эту ересь», как он называл этот сборник, отец держать не мог. Эти известные медведеведы никогда не бывали у нас дома, редко звонил лишь его однокашник Маслицын, зато отец только про них и вспоминал.
Еще он часто говорил загадками. Как-то, обнаружив у меня на столе армию разноцветных пластилиновых медведей (мне было лет восемь), отец наклонился ко мне, обнял и сказал доверительно: «Только очень маленькие фигурки медведей – не больше двух миллиметров в холке – передают их суть. Когда они размером с букашку, сразу становится понятен их секрет». Когда дело касалось медведей, он становился очень чувствительным, и я этим всегда пользовался.
Так вот причина моего упорного стремления всех запутать, когда я стал взрослым, скрывалась в моем путаном детстве, в котором переплелось много противоречивых событий. В моих воспоминаниях акценты были как будто нарочно переставлены, чтобы как можно сильнее исказить картину. При этом я точно знал, как все было на самом деле, но не мог пересказать это своими словами, будто находился под действием заклятия, мешающего точно передать эти видения прошлого. Последовательность картин – очень ярких, а порой и чересчур подробных – была у меня перед глазами, но многие из них так и оставались сценами без описания.
Я помнил, как учился в детстве бросать мяч. Или ловить. Траектория была одна и та же. Отец не признавал слабых бросков. Он норовил метнуть мяч по-взрослому, чтобы при попадании я мог почувствовать его тяжесть и нулевую прыгучесть полуспущенного, обильно напитанного влагой снаряда. Прием всегда получался хлестким, и отскок (при нулевой-то прыгучести) всегда приходился в стену или забор у меня за спиной, так что мяч проходил в паре сантиметров от меня, а то и чиркал по плечу или бедру. Это пока я не умел ловить. Когда научился – броски стали прицельными. Если я подставлял кулак или уворачивался, то получал звонкий замшевый удар по ребрам, если же стоял, не шелохнувшись, оказывался невредим. Отец хрипло смеялся. Я никогда не понимал, чему этот человек пытался меня научить – а ведь он был ученым: что в реальности нет ничего хорошего, у нас нет никакого выбора и мы все здесь подопытные? И поэтому делать с нами можно все что угодно? Это воспоминание обдавало меня ушатом ледяной воды каждый раз, когда я к нему возвращался.
Читать дальше