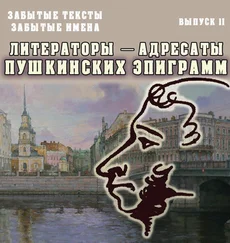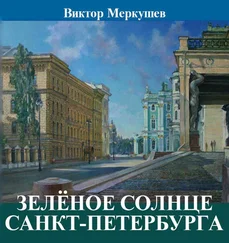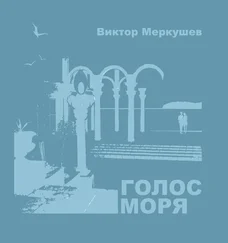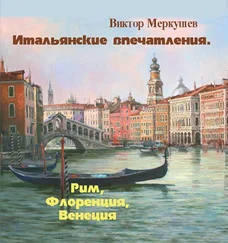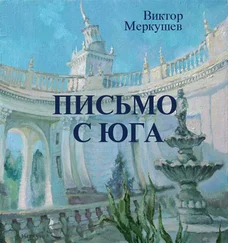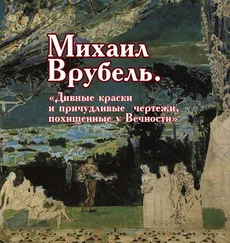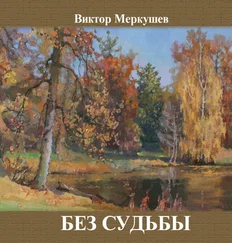А пока над Сосновкой горели разноцветными габаритными огнями монтажные краны, и контуры будущего были ещё неразличимы.
Но разве меняются только одни города? Меняются времена, они-то и меняют обличия городов и в какой-то степени переделывают людей, переделывают в той мере, в которой их вообще возможно переустроить и изменить. Казалось бы: при чём здесь неодушевлённые времена, когда всё должно зависеть от людей, от их намерений и от их понимания будущего. Отчего же тогда времена созидания сменяются эпохами разрушения и отрицания опыта предшествующих поколений? Наверное, всё-таки оттого, что времена не бездушны, как может показаться, а в них всегда присутствует свой особый дух, аккумулирующий и преобразующий в себе все человеческие чаяния, все людские надежды и их дерзновенные мечты о будущем. Но дух времени не имеет возможности нравственного выбора, ему чужды эмоции, на которых зиждутся все человеческие иллюзии и мифы, дух времени преобразует все эти фантомы воображения согласно вечному и неизменному алгоритму необходимостей, выработанному вовсе не человеком, а самой Природой. Оттого, наверное, нашими прекраснодушными помыслами выкладывается дорога, которая всегда идет не в том направлении, которое предполагается изначально. Как тут не вспомнить Александра Суворова, утверждавшего, что результат деятельности сентиментальных мечтателей обязательно оборачивается злом и жестокостью, безотносительно к чистоте и возвышенности их первоначальных помыслов.
Я очень часто не узнаю своего любимого города. Петербург начала третьего тысячелетия совсем не похож на тот город, который мы, молодые энтузиасты семидесятых, хотели воплотить в жизнь. Хотя по-прежнему над Сосновкой горят габаритными огнями монтажные краны, и по Тихорецкому и Хлопина, как несколько десятилетий назад, гуляют студенты.
У них открытые и красивые лица, и этим они очень похожи на нас, студентов ушедшей эпохи, в которой историческое название нашего города упоминалось разве что в учебниках и на музейных стендах. Но, в отличие от нас, они не сентиментальны в своём большинстве, и не мечтают построить на месте Санкт-Петербурга цветущий город-сад, ни за четыре года, ни через десять. И это, пожалуй, очень хорошо.
«…быть к величью города причастным…»
Никогда не возвращайтесь. Никогда. Особенно туда, где осталось много непознанного, недопонятого, недодуманного. Что давно уже поросло фантазиями и собственными мифами. Сожмётся сердце от напрасного, растраченного и потерянного, и заболит душа о нелепо прожитом времени, словно бы вы и прежде были богаты сегодняшней мудростью и теперешним пониманием прошлого.
Город будто усвоил это нехитрое житейское правило и назло своим исследователям менял и обличия, и имена. Он жил, вбирая в себя все яркие приметы быстроменяющихся времён, движимый неодолимым стремлением к новизне.
Всем своим парадным фасадом он был обращён к будущему, ему нравилось меняться, выходить за собственные границы и прирастать ввысь.
Кто может провести растерянного туриста по подлинным камням, ещё помнящим Пушкина и Достоевского? В городе их почти не осталось, да и обычные экскурсоводы редко обращаются к этому случайному «почти».
А если обращаются, то оно целиком укрыто в городских задворках, в заброшенной непарадной части, от бесприютного запустения проходных дворов и полумрака чёрных лестниц, до забытых тупиков, в которых остановилась сама история. Там город пропитан памятью, населён тенями прошлого и бережно хранит следы и отметины пережитых лет.
Позже, когда мне случилось побывать в Европе, я убедился, что не для всех городов характерно стремление к обновлению. Я объясняю такую особенность Питера влиянием модернистского проекта, каким являлся проект переустройства общества и государства, пожалуй, начавшийся реформами Петра и задавший динамику всех грядущих масштабных изменений. Что уж тут говорить об эпохе Верхнего Мела, когда он обрёл ещё большую силу и глубину. Тот выдающийся период славился ещё и людьми, которые хорошо знали свой город и бескорыстно служили делу его прославления. В мои студенческие годы было немало кружков и секций, занимающихся изучением Ленинграда, помогающих жителям приобщаться к культуре города и его истории.
Я в то время состоял в секции экскурсоводов-любителей, где мне достался музей на Болотной улице. Это был небольшой музей, посвящённый событиям семнадцатого года, но важно было совсем другое – сама атмосфера музея. Его облик, его обстановка помогали переместиться не столько в революционную смуту, сколько в иное время, с иными людьми, с иными ценностями и интересами. Это непривычно волновало и увлекало, позволяло пережить совершенно необычные ощущения, которые очень хотелось разделить с пришедшими сюда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу