Сигналы открывали далекие пути, по которым катили дрезины, вагонетки, поезда. На платформах забытых станций стоят их начальники, в залах ожидания дремлют пассажиры. Лунный свет освещает очертания стрелок. Одной из них предназначено окончательно направить меня к давно сформированному поезду, который и есть моя истинная жизнь. Эту жизнь я вижу как идеальную партитуру, на которой не только обозначены ноты и паузы, но и отмечена каждая складка, каждый шум, каждый запах. В этой партитуре записан каждый зевок тимпаниста, движение губ молодой флейтистки, внезапная мысль, пронесшаяся в голове фаготиста, выдувающего последнюю строку нот блистательного крещендо. В этой партитуре я вижу и то, что не видит никто. Мир – это бескрайний аквариум. А я, как та мадагаскарская рыба, выживший каким-то чудом, свидетельствую о вымерших животных. Никто, кроме моей мамы, не распознал во мне исключительный дух, все требовали каких-то доказательств, невнятных внешних проявлений. Как будто нет невидимых жизней. И разве Вагнер не оставался бы Вагнером, если бы сочинял только для зайцев, ежей, черепах и жуков? Или если бы по дороге в Тоскану не встретил бы Чимабуэ и увидел маленького Джотто, рисующего на песке? Джотто рисовал бы, даже если бы ему до конца жизни пришлось пасти овец. Веками яблоко Ньютона падало мимо его головы. И все-таки оно оставалось Ньютоновым.
Ребенком я не боялся уколов, темноты, глубокой воды. Не боялся зубных врачей, парикмахеров, незнакомых людей. Необъяснимый страх вызывала только Нерина, прислуга, приходившая каждую вторую субботу, когда мама предпринимала капитальную уборку квартиры. Накануне ее прихода мне становилось тоскливо, потому что мама меняла привычное расположение вещей в доме. На террасе приготовлялись метлы, ведра, тряпки. Со столешницы обеденного стола свисали кожаными спинками вниз стулья. Поскольку мы с сестрой не участвовали в большой уборке, время до полудня проводили в кинотеатре, а после обеда уходили играть во двор, но все-таки осознание того, что в квартире переставляют вещи, становилось причиной моего беспокойства. И только вечером, еще с порога вдохнув запах мастики, я начинал отходить. Выстиранные, еще влажные шторы источали свежесть, мебель сверкала, полы излучали легкость. Если я замечал, что какая-то лампа, ваза или статуэтка сдвинута, то заботливо возвращал этот предмет на то место, где он обычно стоял. Мир опять был на своем месте.
Нерина снимала угол у маминой закройщицы Рики. Там мама с ней и познакомилась. Жених Нерины сбежал в Италию. И в той квартире существовал какой-то порядок, который Нерина не только уважала, но и поддерживала. У тети Рики была дочь моих лет. Ее звали Дина. Уходя на примерки, мама брала с собой и нас с сестрой. Мы играли с Диной. Мама сказала, что муж тети Рики сбежал в Италию, когда Дина была грудным ребенком. И ничего не давал о себе знать. Я думал, почему тот, кто решил сбежать, должен подавать о себе весточку? «Сбежать в Италию» было каким-то решением, все равно что сбежать из школы из-за плохих оценок или от нелюбимой жены.
Мои первые сексуальные фантазии пробудила Нерина. Играя во дворе, я подстерегал момент ее появления в окне. Она выбиралась на жестяной подоконник, и там, держась левой рукой за оконную раму, правой протирала стекла с внешней стороны. Под платьем из тонкого полотна выглядывали бедра и белое пятно нижнего белья, которое иногда во время ее движений увеличивалось. Я смотрел на нее, спрятавшись в кустах самшита. Однажды летом в парке у гребного клуба я увидел Нерину в объятиях какого-то моряка. Они сидели на скамье и целовались. Левой ладонью, той самой, которой держалась за раму, она ерошила щетинистые волосы любовника, а правая утонула в его широких белых брюках.
Я помню звук, производимый комком газет, соприкасающимся с влажным стеклом окна. Этот скрип и сегодня вызывает у меня мурашки. Я пережидал эту звуковую непогоду, прячась в дальнем углу двора. Пока не успокоятся призраки, не смеющие спрятаться даже в газетных столбцах. Какофонию творили скомканные истории, рассказывающие об обрушении пространства, о голосах людей. Все, о чем говорилось в колонках, теперь собралось в один комок. Вопят одиночки, посылающие свои призывы в бутылках газетных объявлений. Я не жалею их, у меня нет сочувствия к типам, которые стараются избежать той полноты, которую дает только одиночество. Все они притворяются, это всегда какие-то чистюли, которые не пьют, не курят, ищут не приключений, а только серьезные связи. Есть ли хоть что-то менее серьезное, чем с помощью призыва в бутылке отыскать серьезную связь? И эти женщины. Ни в какую не желают алкоголиков или авантюристов. Недавно я прочитал в серьезном американском журнале на странице объявлений текст высокого голубоглазого парня, только что разменявшего шестой десяток. Поверьте, Руди, он отчаянно врал, он давно уже растратил этот свой шестой десяток. Какая бесстыдная ложь, он желает познакомиться с молодой женщиной, чтобы путешествовать, учиться, исследовать мир вместе с ней. Он предпочитает Париж, Китай, Ван Гога, театр, Бетховена, волонтерскую работу в международных организациях, юмор. Какое меню! Таких мне совсем не жалко, когда их вопли исчезают в смятых газетах, которыми моют окна.
Читать дальше
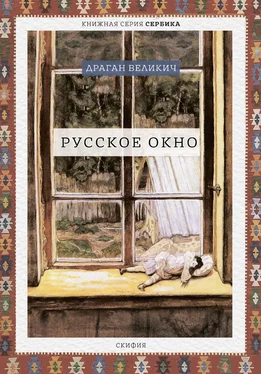






![Майя Драган - Бизнес на всю катушку [Как построить свое дело без стартового капитала] [litres]](/books/389133/majya-dragan-biznes-na-vsyu-katushku-kak-postroit-s-thumb.webp)


