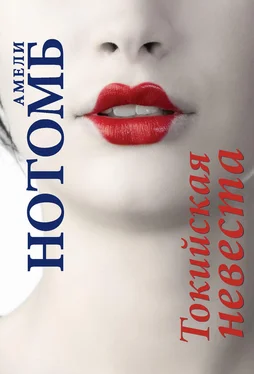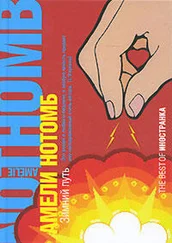Амели Нотомб
Токийская невеста
[1]
Лучший способ выучить японский, решила я, – это преподавать французский. И повесила объявление в супермаркете: «Уроки французского. Недорого».
В тот же вечер раздался звонок. Мы договорились встретиться на следующий день в кафе на Омотэ-сандо. Имени позвонившего я не разобрала, а он, скорее всего, не разобрал моего. Положив трубку, я сообразила, что он не объяснил, как его узнать, а я не объяснила, как узнать меня. И поскольку я к тому же не догадалась спросить у него номер телефона, то проблема выглядела неразрешимой. «Наверно, он перезвонит и спросит», – подумала я.
Он не перезвонил. Голос показался мне молодым. Ну и что? В Токио в 1989 году молодежи хватало. Тем более в этом кафе на Омотэ-сандо 26 января в три часа дня.
Я была там не единственной иностранкой, далеко не единственной. Однако он без малейших колебаний направился прямо ко мне.
– Вы учительница французского?
– Как вы угадали?
Он пожал плечами. Прямой как струна, очень напряженный, он сел и замолчал. Мне стало ясно: раз я учительница, то инициатива должна исходить от меня. Задав несколько вопросов, я узнала, что ему двадцать лет, зовут его Ринри и он изучает французский в университете. Он узнал, что мне двадцать один год, зовут меня Амели и я изучаю японский. Он не понял, какой я национальности. Но мне не привыкать.
– С этой минуты мы больше не говорим по-английски, – сказала я.
Я завела разговор на французском, чтобы выяснить его уровень, который оказался удручающим. Хуже всего дело обстояло с произношением. Если бы я не знала, что он отвечает мне по-французски, то решила бы, что он делает первые шаги в китайском. Словарный запас был практически на нуле, а синтаксис – скверной копией английского, который служил для Ринри, бог весть почему, основой и образцом. Между тем он занимался французским в университете уже третий год. Я убедилась в полной несостоятельности системы преподавания языков в Японии. Такое даже не спишешь на островную изоляцию.
Он, видимо, все понял, извинился и умолк. Я не могла смириться со своим педагогическим провалом и попыталась снова заставить его говорить. Безуспешно. Он накрепко закрыл рот, словно стеснялся плохих зубов. Дело зашло в тупик.
Тогда я заговорила по-японски. Я не говорила по-японски с пяти лет, и тех шести дней, что я провела в Стране восходящего солнца после шестнадцатилетнего перерыва, было, разумеется, недостаточно, и еще как недостаточно, чтобы воскресить мои воспоминания об этом языке. Я понесла какую-то детскую белиберду. Что-то про полицейского, собаку и цветущую сакуру.
Он некоторое время с изумлением слушал, потом расхохотался. И спросил, кто учил меня японскому, уж не пятилетний ли ребенок.
– Именно, – сообщила я в ответ. – И этот ребенок – я.
И рассказала ему свою историю. Я рассказывала по-французски, очень медленно. Сюжет был эмоциональный, и я почувствовала, что ученик меня понимает.
Я его раскомплексовала.
На своем немыслимом французском он сказал, что знает место, где я родилась и прожила до пяти лет, – Кансай [2].
Сам он родился в Токио, где его отец возглавляет престижный ювелирный дом. Тут он в изнеможении замолчал и залпом допил кофе.
Он так устал, будто переходил вброд реку в половодье, прыгая по камням, отстоящим друг от друга метров на пять. Мне смешно было смотреть, как он переводит дух после такого подвига.
Надо признать, что французский язык коварный, в нем действительно много подводных камней. Не хотела бы я быть на месте моего ученика. Научиться говорить по-французски наверняка не менее трудно, чем научиться писать по-японски.
Я спросила, что он любит. Он думал очень долго. Мне было интересно, имеют его размышления экзистенциальную природу или лингвистическую. После столь обстоятельного обдумывания ответ меня ошарашил:
– Играть.
Я так и не поняла, затруднения были мета физического или лексического свойства. Но не отставала:
– Играть во что?
Он пожал плечами.
– Играть.
Его поведение объяснялось либо потрясающим философским бесстрастием, либо нерадивостью в изучении моего великого языка.
Я сочла, что в любом случае он ловко вывернулся, и решила его поддержать. Я сказала, что он прав, жизнь – это игра, а те, кто считает, что играть значит заниматься пустяками, ничего не понимают, и так далее.
Он посмотрел на меня так, словно я с Луны свалилась. Общение с иностранцами хорошо тем, что обескураженный вид собеседника всегда можно списать на культурный барьер.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу