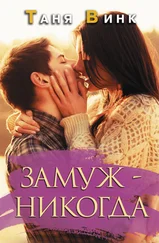Упасть духом было от чего – ему все чаще «тыкали» и хамили. «Тыкал» и хамил хозяин, «тыкал» кладовщик, выдающий товар, «тыкали» покупатели, а дома Лариса устраивала истерики:
– Ты позоришь нашу семью!
Мама возражала:
– Лара, друг твоего прадеда, один из князей Юсуповых, в Париже извозчиком работал и не считал это позором.
– Так пусть у себя в Харькове работает, а мне перед людьми стыдно! – Лара театрально заламывала руки.
– Вместе со спермой мужа тебе передалось его холопство, – чеканила Анна Ивановна, сверля дочь недобрым взглядом.
И Лара опускала руки, потому как знала маму, знала ее крутой нрав, а также то, что она едва терпит Германа. К тому же Лара не рассчитывала, что страна развалится, их вытурят из Венгрии и придется жить под одной крышей с мамой без перспектив на свое жилье.
Может, кому-то плевать на то, что незнакомец говорит тебе «ты», плевать на хамство, но не Мише, выросшему в петербургской семье потомственных военных, служивших верой и правдой еще царю и отечеству, и однажды он не смог не ответить на хамство.
– …Дай «Комсомолку».
– Продана.
То ли подвыпивший, то ли уколотый покупатель с пушком над верхней губой, растопырив пальцы и выпучив мутные глаза, начал качаться из стороны в сторону, как маятник:
– Слышь, ты, мудак, я не понял… Мне газету…
Монолог прервал кулак Миши. Тут же подскочил мент – он брал газеты бесплатно, – одной рукой оторвал мутноглазого от асфальта, перетащил на другую сторону улицы, что-то сказал, пинком обозначил вектор движения и вернулся.
– Миша, ты поосторожней с наркоманами, такой и заточку под ребро сунуть может. – Менту дозволялось «тыкать»: он охранял Мишу.
Заточку под ребро не сунули, но по голове дали – в суматохе, когда стемнело и из дверей метро, обтекая Мишу, повалил серолицый, уставший и торопящийся народ. Никто не остановился, когда продавец прессы, сидящий в решетчатой арке, густо увешанной газетами и журналами, ткнулся носом в столик, но вот десятка полтора газет и журнальчиков «дернули». И дергали б еще, но тут тетка, решившая что-то честно купить, увидела кровь, растекающуюся по «Мурзилке». Увидела, заголосила, примчался мент-охранник, и через два часа Миша с забинтованной головой лежал в травматологическом отделении Городской больницы скорой помощи. Придя в себя, он попросил позвонить маме, а потом принести ему бумагу и ручку.
– Зачем? – удивилась медсестра.
– Дочке письмо напишу, я ей каждый день пишу, она живет в Харькове. Она у меня очень хорошая…
Это письмо, самое короткое из всех, он писал долго, прерываясь из-за нарастающей боли в голове, в глазах, но написал. Как раз примчалась встревоженная Анна Ивановна, и он попросил ее это письмо отправить. Надо сказать, что Анна Ивановна невестку не жаловала, да и внуков тоже. Во-первых, потому, что Люда была из семьи непотомственных военных и Анна Ивановна называла свата, хоть никогда его не видела, самодуром. В этом было много правды: отец Люды, начальник тюрьмы, отличался непомерной жестокостью – дома установил тюремные порядки, не говорил, а отдавал приказы, бил жену и детей, коих было двое. Побьет, покуражится, потом поставит к стене всю в синяках, обливающуюся слезами жертву, положит на голову надкушенное яблоко и целится в него из револьвера. И попробуй шевельнуться! Если яблоко упадет на пол – еще один синяк обеспечен. Целится долго, а потом как бахнет! Люда несколько раз описывалась. Любил приоткрыть дверь и подслушивать, подглядывать в щель. Дети об этом знали, но виду подавать нельзя было, и они продолжали читать, играть, изо всех сил стараясь скрыть дрожь. Уже после смерти отца, окончив школу, Люда сбежала из дома, уехала из Краснодара в Ленинград, к подруге покойной бабушки, и больше ни маму, ни брата не видела. Первое время она отправляла маме письма, но ни разу ответа не получила, так что теперь у Кати с Витей была только одна, питерская бабушка, да и то условная. И еще Анна Ивановна не жаловала Люду по той причине, что у нее не было высшего образования, а это не укладывалось в голове Анны Ивановны, потому как человек без высшего для нее был чем-то вроде говорящей обезьяны. Но письмо Анна Ивановна отправила.
Катя запомнила это письмо, потому что почерк папы был каким-то другим, буквы были написаны криво, без привычного нажима. Таким почерк был у папы, когда он лежал в больнице с повреждением позвоночника, – поздним вечером, в кромешной темноте, он возвращался домой, ударился лбом о сломанную, низко висящую ветку и упал навзничь прямо на камень. Когда папу выписали из больницы, он долго ходил в корсете, кривился от боли, и Катя тайком от всех плакала и молила Боженьку помочь папе. Боженька помог – папа снял корсет, начал бегать, но вот тяжести носить ему было нельзя. Читая письмо, она чувствовала: с папой что-то не так, хотя ничего тревожного в теплых строках вроде бы не было.
Читать дальше




![Таня Винк - Нет ничего сильнее любви [litres]](/books/397913/tanya-vink-net-nichego-silnee-lyubvi-litres-thumb.webp)