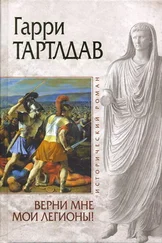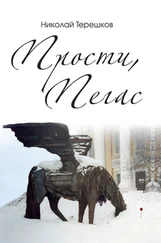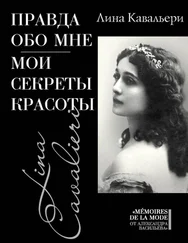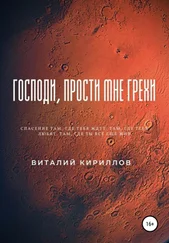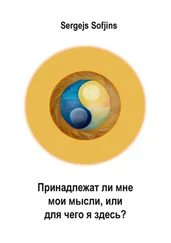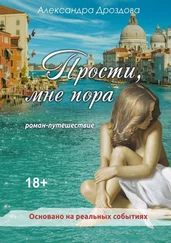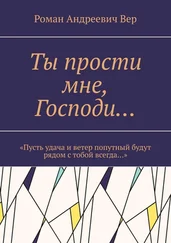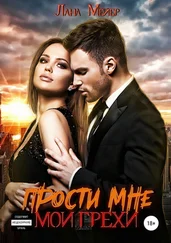(Возможно, я чего-то тут недопонимаю…).
А когда, приблизившись к остановке, я вижу, что рядом никого нет (днем такое случается не часто) – притормаживаю.
Не замечая, как в худую, далеко не атлетическую мою спину – настойчиво, невидимым своим посохом, постукивает Время, отмахиваясь от собственных, настырных, мыслей, что угодил-де в глубокую психологическую ловушку, – словно глупый барашек на новые воротца, таращусь на никчемный этот листок.
Не чувствую я также, как на сморщившемся, от натуги, лбу проступает предательская испарина – помимо прочего, верный признак того, что не все свойства собственной моей натуры мне известны.
Таращусь, с какою-то острой, непонятной себе самому грустью и даже тоской, осознавая, что проведи я здесь хоть полжизни, состарься, – не рискну намаракать полное «слез» и надежд, или отчаяния письмо и не отправлю по указанному на известной бумажке адресу…
В июль катилось лето…
Ночь.
Улица.
Вечные звезды над головой.
Самое подходящее время и место для романтиков – если таковые еще остались в нашем…ском …том, или …ном мире (каков именно этот наш мир – каждый может решить для себя сам…).
Наверное, я – не романтик.
Нет…
Потому что какой-то особой предрасположенности к ночному времяпрепровождению – я в себе не нахожу.
Да и не особой тоже.
Я ее разлюбил.
Эту таинственную ночную пору.
Шестнадцать лет назад.
* * *
К тому – чрезвычайно важному в моей жизни периоду – третья по счету планета Солнечной нашей системы по имени Земля совершила вокруг могущественного Светила – за всю свою сверхдолгую эру существования (по человеческим, а может быть, и по космическим меркам…)… плюс еще девятнадцать стремительных оборотов.
Именно столько – девятнадцать весен и зим – я вполне, себе, благополучно, комфортно жил-поживал на белом свете.
Из этих девятнадцати весен и зим – семнадцать прошли в Центральной полосе России. В благословенной сельской местности, где благодатная, отзывчивая на добрый уход, почва сполна засевалась хлебным зерном и гречихой, картофелем и морковью, свеклой и капустой, другими сельскохозяйственными культурами и даже таким, весьма неоднозначным по нынешним оценкам, растением, достигавшим в высоту чуть ли не два человеческих роста, как конопля, семян, или плодов которой в один только год государству было сдано (факт, официально задокументированный…) в количестве пятисот пятидесяти тонн! Леса были полны грибов и ягод – как писал поэт Николай Рубцов:
И под каждой березой – гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиной – гриб,
Подосиновик!
Вот, только летом – уже не так раздольно, как раньше, шумели листвой посаженные дедами яблоневые сады, заросшие густой, вольной травой, приходящие теперь в запустение, и процесс этот необратим.
… А Ирине ее жизненные часы-ходики отстучали на треть поменьше, чем мне – тринадцать годочков. Если полных. А если считать точнее – то всего через месяц ей должно будет исполниться – четырнадцать.
Несмотря на значительную разницу в возрасте (это в более зрелом периоде жизни – пять, или шесть лет не столь чувствительны, для различного рода отношений, между мужчиной и женщиной, в иных случаях – и вовсе незаметны…), мы были привязаны друг к другу крепкими, прочными нитями.
Взаимные наши симпатии обнаружились следующим образом.
Спустя день после моего приезда домой – теплым, тихим вечером я наведался в сельский наш Дом культуры. Прекрасное, двухэтажное это здание, с возвышающейся над вторым этажом дополнительной кирпичной конструкцией, предназначенной для демонстрации в том числе настоящих цирковых представлений, было построено к знаменательной исторической дате – 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, и я (с товарищами) являлся мало возрастным свидетелем стройки, бессчетное количество раз облазивший каждый ее уголок – во время отсутствия строителей, разумеется. На одной из стен надстроенной конструкции, поверх серой штукатурки, красной краской был изображен и сам вождь, точнее, только его голова, занимавшая почти всю площадь стены. Лицо Ильича, отчетливо видимое издалека, было необыкновенно приветливым. Подобное ощущение возникало – благодаря известной всему миру, обезоруживающей – «ленинской» улыбке и ласковому, доброму прищуру глаз.
Пришел я в Дом культуры затем, чтобы увидеть (возможно) кого-либо из «старых» своих друзей и посмотреть на огромном, широком полотне мультики. Это было обычной практикой, когда время от времени, вместо художественной картины (предпочтение неизменно отдавалось так называемым кассовым фильмам – приключенческим, комедийным, любовным, среди которых особо почетное место занимали вышибающие из глаз слезы у женщин – индийские ленты)…, киномеханик привозил из районного центра мультфильмы. В этот раз вниманию зрителей предлагалось: три первых выпуска «Ну, погоди!», «Жил был пес» и «Как казаки невест выручали».
Читать дальше