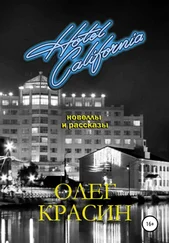– Ну, знаете, Елена, – Громов усмехнулся. – За сегодняшний день вы скинули килограммов десять. Хороший ужин вам не повредит. Хотя вряд ли, конечно, в такой гостинице накормят чем-нибудь хорошим. Подадут какие-нибудь пролетарские пельмени со сметаной из порошка… но я так проголодался, что даже им буду рад.
– Ладно, уговорили. Гулять, так гулять…
Елена встряхнула головой.
Волосы блестели капельками растаявших снежинок: не подчиняясь указаниям, от машины до гостиницы она шла с непокрытой головой.
–…Только давайте сначала поднимемся в номер, оставим сумки. И еще я хотела бы по-быстрому принять душ. Знаете, Александр, я бодрюсь, но на самом деле меня бросает то в жар, то в холод. До сих пор трясет. Надо смыть с себя все это.
– Нет, Елена, – возразил он. – Подниматься мы не будем. Если поднимемся и вы пойдете в душ, то или вообще не спустимся, или ресторан к тому времени закроется. Кстати, он и так скоро закроется, туда перестанут запускать: это ведь не Москва, не ночной клуб, а провинциальная гостиница на откосе, да еще идущая на рестайлинг.
– Пожалуй, вы правы, Александр. Я на самом деле ужасно хочу есть, только сейчас поняла. Оттуда, кстати, вкусно пахнет.
– В общем так, Елена. Никуда не идем.
– Но дайте, я хоть пойду и сниму эти леггинсы, – просительным тоном сказала она. – Мне жарко. И вообще я в них – как рабочий и колхозница. Мне, конечно, все равно, но…
– Вы не рабочий и не колхозница. Вы музыкант и прекрасны, как виолончель. А от своих легинсов освободитесь здесь. Если тут ресторан, значит, где-то есть – как там у них называется – « дамская комната ». Спросите у портье, она скажет. Давайте вашу шубу и сумку за двадцать тысяч, я пойду займу столик, прикину, что тут можно заказать.
– За двенадцать. Шубу отдам, сумку – нет. Там косметичка и все прочее, надо хоть губы накрасить.
– Ладно, давайте, я вас жду.
– А вам не будет тяжело? – Елена расстегнула крючки. – И без того навьючены, как осел, да еще моя шуба?.. Извините!
– Не будет. Ваше манто невесомо.
Поставив командировочную сумку на пол, Громов встряхнул Еленину шубку от снега, и отметил, что вблизи она оказалась не новой.
Дверной проем, ведущий в ресторан, уходил к невидимо высокому потолку.
За тяжелой портьерой открылся зал – узкий и длинный, протянувшийся вдоль фасада.
Вероятно, в лучшие времена здесь бывало людно, шумно и светло, звенела посуда, слоился табачный дым, плыли запахи хорошего коньяка и разнообразных духов.
Но сейчас тут царил упадок, говорящий, что гостиница доживает последние дни. Из матовых шаров на разлапистых старомодных люстрах теплилась лишь четвертая часть. Большинство столов было сдвинуто в дальний угол и составлено друг на друга, уныло торчали ножки перевернутых стульев.
Скатертей и приборов не было, стояли только мельхиоровые вазы с салфетками.
Общий развал подчеркивала оркестровая эстрада с подставками для нот и пустой стойкой микрофона.
В зале сидели люди, что-то ели. Музыки не звучало; слышались невнятные обрывки фраз да перестук вилок по фарфору.
Маленьких столиков в зале не осталось, стояли только большие, на шесть персон: остатки былой роскоши еще ориентировались на « шведский » завтрак.
Выбрав место в полутемной глубине, он повесил одежду, сел лицом ко входу и принялся ждать Елену.
Очень быстро, бесшумно появилась круглолицая официантка в передничке, молча положила кожаную книжку меню. Громов так же молча кивнул, но смотреть не стал.
Он сидел и думал, что умирающий ресторан как нельзя лучше подходит к ситуации.
В прежней жизни Громов часто посещал гостиничные рестораны: иногда один, иногда с женщиной. Порой он приходил один, а уходил с женщиной – такой же полуприкаянной искательницей приключений. Но тогда все происходило по-другому.
Рестораны сияли огнями, гремели музыкой, а женщины смеялись, молоды и доступны…
Впрочем, нет, они не обязательно оказывались молодыми и далеко не все изначально были доступными, это Громов кипел энергией, шел на поводу своих желаний – и они осуществлялись сами собой. Ночи в придорожных отелях дышали восторгом сладострастья, длились долго и не несли ничего, кроме радости. А завершались всегда одинаково: тихим вздохом закрываемой двери и замирающим стуком каблуков по коридору. Утро приходило в спокойном одиночестве – без круассанов на балконах, но и без раскаяния.
Громов ездил в командировки, находил женщин на одну ночь, возвращался домой – не ущербленный и не виноватый, поскольку вины ни перед женой, ни перед семьей как категориальной общества не имелось.
Читать дальше