Горькое открытие того, что руки нет, не потрясло его, а заставило заметить со свойственной ему ироничностью:
— Я и забыл… совсем, что руку посеял… там.
Тут же выяснилось, что «посеял» он не только левую руку, но и ногу. Тоже левую.
Сестра закрыла рот платком. Глаза, как переполненные соленые озера.
— Не плачь, — качнул он головой на подушке. — Лучше скажи, где я?
— В Кизляре. Я как только… смогла, сразу приехала. Она говорила что-то еще, но уставшее сознание Степана снова уплыло в тишину. Тишину, в которой он слышал звук своей гитарки, ощущал подрагивание струн, теплую гибкость лакированного дерева, на котором поселились странные красавицы с пышными прическами. Они смотрели на него из-под густо накрашенных ресниц и улыбались. От них веяло музыкой «АББА» и песней «Надежда»…
«Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость.
А песни… довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось».
Он помнил о доме. Все время помнил. И удивлялся, что мать не приехала с сестрой. Хотя… Не такое уж у нее крепкое здоровье, чтобы таскаться по поездам. Да и миллионов она не накопила. Вот и послала Олю.
Все верно. Пусть так. Все равно скоро домой…
Так он думал в тишине госпиталей Буйнакска и Ростова. Но путь домой затягивался. Что-то не клеилось у людей в масках и белых халатах. Не позволяли они Степану надолго приходить в себя. Тревожили без конца страшные раны.
Наконец после особенно длительного провала он понял, что снова находится в другом месте. У соседей по палате узнал, что попал в госпиталь имени Бурденко, в Москву, и что скоро Новый год.
В самом выражении «Новый год» таилось что-то обнадеживающее, что-то светлое, радостное. Но радость доставалась с болью. Раны воспалились и начали гноиться. Степан все время проводил в болезненном забытьи. Он старался думать о сестре и о матери. Поведение сестры беспокоило его. Если он спрашивал о матери, Оля уходила от ответов или переводила разговор на другую тему. Вечная боль и наркотики обессилили его, мутили рассудок. А когда приходил в сознание, то не мог сосредоточиться.
Однажды вынырнув из забытья, он увидел Леночку. Она неловко улыбалась, держа в руке букетик цветов.
— Привет, — сказала она и не сделала ни малейшей попытки поцеловать его, даже не подошла ближе. — Ну, как ты тут?
— Сражаюсь, — ответил Степан.
Он помнил почти все Леночкины письма; приходившие строго раз в неделю. Письма эти были похожи друг на друга, словно писались все вместе под копирку. Официальные городские сплетни перемежались пространными рассуждениями о погоде и о какой-то Инке, которая все никак не могла разобраться со своим парнем. Потом шло уведомление, что в магазинах опять все подорожало, и в конце письма можно было наблюдать прощальный отпечаток накрашенных помадой губ.
Судя по виду Леночки, она сама сейчас была последним письмом собственной персоной. И без прощального «помадного» поцелуя.
— А у нас почти все преподаватели поменялись. Зарплату не платят. Так они вначале бастовали, а потом увольняться стали… — Леночка говорила, не глядя ему в глаза. — Знаешь, пошел слух, что Путин будет проезжать через Запеченск, так у нас все скамейки покрасили. Представляешь, скамейки обледеневшие, в снегу, а они их покрасили…
После этого поток новостей иссяк.
— Ладно, ты поправляйся, — слабо улыбнулась Леночка после продолжительной неловкой паузы и, положив на край тумбочки букетик, отступила к двери.
— Погоди… — позвал ее Степан.
Что-то похожее на досаду мелькнуло в ее глазах. Ей не терпелось уйти.
— Слушай, ты не знаешь, где мать?
— А тетя Маша в больнице… Ой… Ты разве не знаешь? — испуганно спросила она.
— Что с ней?
— Ты лучше у Оли спроси…
— Что с ней? — повторил как мог жестко Степан.
— Инфаркт, кажется… Или что-то в этом роде. Ладно, Степа, я пойду. Меня мама внизу ждет. Мы за покупками приехали, вот я и решила… проведать. Ну, что, пока…
Но Степа уже не думал о Леночке. Она испарилась так же быстро, как и возникла, ничего не забрав из его сердца и ничего туда не вложив.
Вечером его снова повезли на обработку. Обезболивающие препараты лишь притупляли боль. Любое прикосновение к ранам рождало жаркую, удушающую волну, достигавшую головы и заставлявшую ее гудеть, как огромный колокол. Сцепив зубы и отвернувшись к стене, с расширенными зрачками Степан молча пережидал это гудение, этот жуткий внутренний крик, оглушительно звучавший в тишине тела, теперь упорно жаждавшего жизни, цеплявшегося за нее.
Читать дальше
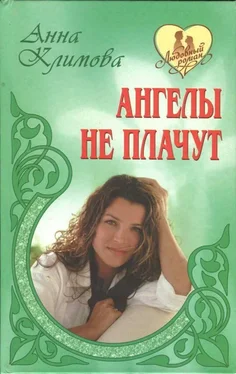





![Влада Молнева - Ангелы плачут в июне [litres]](/books/430422/vlada-molneva-angely-plachut-v-iyune-litres-thumb.webp)




