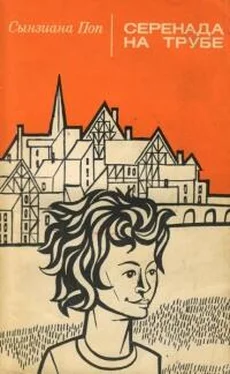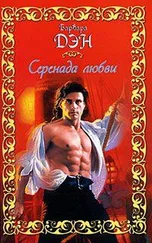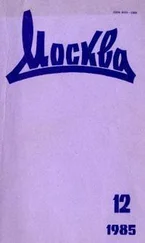Два засохших яблока мы поделили. Одно — ей, одно — мне. Иногда это были не яблоки, а что–то другое. Манана воровала ради меня. Она воровала во имя справедливости.
— А если тебя поймают? — спрашивала я.
— Поймают, меня?! — И это была не грошовая смелость, это была настоящая смелость.
На самом деле воровала Эржи. Манана укрывала. Эржи — для Мананы, Манана — для меня, Эржи — из жалости, Манана — из страха. Она говорила, что защищает меня. И не только говорила, но и думала. Она защищала меня двумя сухими яблоками. Она прятала их и принесла себя в жертву. А ведь гораздо легче принести себя в жертву ради другого. И умереть гораздо легче от руки другого, чем от своей собственной. Но Манана не могла сама лишить себя жизни, слишком слабы для этого были ее руки. А это совсем другое дело, когда смерть приходит с одной определенной стороны, когда ты уже не можешь выбирать, когда твердо знаешь, откуда она придет.
И Манана знала. Потому она и защищала меня сухими яблоками, защищая на самом деле самое себя. Она хотела забыть. Она прятала для меня и мысленно грозила золотым зубом, и эта борьба за правду была настолько всеобъемлющей и настолько глубоко была в ней сокрыта, что никто бы не принял ее за страх смерти. Никогда бы не принял.
Не знаю, о чем были письма. Они связаны были резинкой. Несколько оранжевых конвертов, выцветших, местами исписанных тонкими буквами. Манана никогда не просила читать их ей, и именно потому, мне кажется, она много о них думала. Подозреваю, что она выучила их наизусть еще тогда, когда хорошо видела. Она часто говорила сама с собой, и некоторые фразы жили в этих оранжевых конвертах. Слишком уж они не вязались с тем, что она говорила раньше. Это были странные, цветные слова, слова из других краев, очень подходящие к Манане, какой она глядела с семейных фотографий, и очень неподходящие к ее теперешнему виду. А мне, когда я их слышала, хотелось спать. И я постоянно спрашивала Эржи про историю с Мананиным полицейским, потому что, хоть она всегда говорила, будто ничего не знает, я могла поклясться, что письма были от него. И Манану я тоже спрашивала:
— Что за история с полицейским? Говори, наконец! — А она пугалась, закрывала глаза и принималась тихонько хныкать.
И на этот раз я снова спросила ее, я умоляла ее:
— Скажи, скажи мне все, я уезжаю, а ты останешься со своею тайной. Не будешь жалеть?
Она перестала плакать, вздохнула и уронила золотой зуб. Я подняла его и положила снова ей на ладонь.
— Скажешь?
Манана говорит плохо. Слова не помогают ей. Она от них тает. Они же обкрадывают ее и удирают после четырех фраз. В ней все — сплошное кладбище.
— Читай письма! — шепнула она.
— Ты так хочешь, честное слово?! — спросила я.
— Читай! — попросила она. — Читай письма.
Я взяла пакет с ее колен и развернула его. Я сняла с писем старую, двадцатилетней давности резинку, и конверты почувствовали себя прекрасно. Они шуршали, как новые, почти новые. Потом я раскрыла конверты и вынула письма. Я вынула их и развернула.
— Манана, ты сумасшедшая? — спросила я.
— Читай, читай! — задыхаясь, просила она.
Она вспыхивала, точно лампа перед тем, как погаснуть.
— Хорошо, — сказала я, — если ты уж так хочешь! И я откашлялась и…
— «Дорогая Манана».
— Мария Онига, — сказала она улыбаясь.
— Мария Лауф, — возразила я, — так звали твоего мужа.
— Онига, Онига, — сказала она. — Мое девичье имя.
— Да, но, когда появился полицейский, ты была вдова. Вдова Лауф. Фон Лауф то есть, прости. Усатик был герцог, ведь правда?
— Онига, — сказала она и снова захныкала. — Читай, читай, прошу тебя.
— Дорогая Мария Онига.
— Мэриоарэ, — сказала она, — так красивее.
— Ах, боже мой, ну ты и капризная, — пожаловалась я. — Мы просидим так до ночи.
Она снова захныкала.
— Ну все, не канючь. Давай читать. «Дорогая Мэриоарэ Онига. Я увидел Вас у Тымпы, и Вы мне понравились. Вам очень идет зеленая шляпа с охотничьим пером. Жаль, что я не смог обратиться к Вам, но я был при исполнении служебных обязанностей. Такова уж моя судьба полицейского — стоять по воскресеньям на аллее, когда в павильоне играет духовой оркестр. Вы видели, сколько было народу? В основном сборная солянка: солдаты и служанки; держась за мизинцы, они прохаживались взад–вперед и щипали друг друга. Почему это все солдаты и все служанки на свете друг друга щиплют? Они щиплются каждый четверг и каждое воскресенье с пугающей регулярностью. Щип, щип. И снова щип, щип. И так все время».
Читать дальше