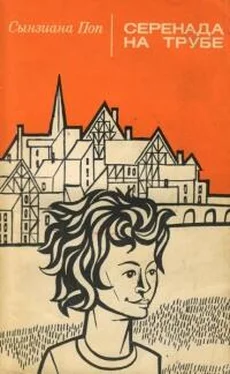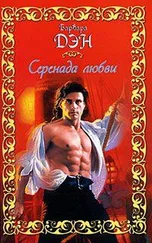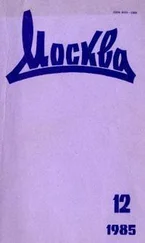И война кончилась год назад, но они были очень похожи на войну, какой она осталась у меня в памяти. И не только потому, что у них были ружья, я думала так. И не только потому, что на них были разорванные формы, я думала так. А потому, что сразу исчезла вся моя радость. Совсем исчезла, и мне захотелось плакать. По Манана меня опередила и включила свою сирену, а ей в этом деле не было равных. Она плакала так грозно, и у меня не хватило смелости повернуть голову и посмотреть на Мутер, стоящую у окна. И крикнуть. Но Манана плакала так грозно, что мне стало страшно. Мне вдруг стало очень страшно.
А отец был тогда дома, и Мутер была тогда дома, они оба спустились по лестнице на несколько ступенек и стояли теперь у нас за спиной. А те, другие, все подходили, а потом остановились и посмотрели на нас, а один из них засмеялся. Только один, и я тотчас решила, что это мой, а Манане оставила другого. Она перестала плакать и теперь молчала.
— Вам кого? — спросил отец, и я вдруг почувствовала, что умираю.
Он не знал, что они пришли не по тропинке. А этот вопрос он никогда до тех пор не задавал. Люди в горах друг друга не ищут. Где–то в иных местах они ищут друг друга и теряют, теряют и ищут и иногда находят. А иногда не находят, или находят ошибочно, или находят, когда не надо, слишком рано или слишком поздно, И пугаются: «Кого вы ищете? Кого вы изволите искать?» И спрашивают на «вы», очень вежливо. Не скажут: «Кого ты ищешь?» — но на «вы», и, я думаю, это чтобы защититься. Нагромождают слова и за ними прячутся. Я так думала. И что он спасется, и отец тоже так думал и потому спросил, хотя в горах нечего бояться. И все–таки тогда он испугался.
— Пошли с нами, — позвали они, и даже не слишком настойчиво. Они не его искали. Не обязательно его.
— Куда? — закричала Мутер, и я увидела, как ее рука впилась в перила у моего лица. Ее продолговатая рука с тонкой кистью, с пальцами, обвившими дерево перил, как нервы. Она вся начиналась с этой руки. Она начиналась оттуда, но я не могла себе ее представить, ни за что не могла себе представить, как она выглядит. Я только чувствовала ее, не больше.
— Куда? — спросила она снова, и отец накрыл ее руку своею ладонью. Он накрыл ее руку своею ладонью, и я вдруг поняла то, чего раньше не понимала. Я вдруг ясно поняла и очень обрадовалась — где–то в глубине души, куда не проник еще страх. Потому что я часто себя спрашивала, почему так странно было видеть, что она колет дрова, помогает отцу, почему она не подходит ко всей этой жизни в горах, на которую пошла, но для которой, не знаю отчего, всегда оставалась чужой.
А отец тогда накрыл ее руку, и этот жест был так прост и движение так естественно, так спокойна была его защита и ее радость от ощущения, что ее не дадут в обиду, что я поняла: это все. Я поняла их обоих, и словно они перестали быть моими родителями, эти красивые люди, которые так друг друга любили, любили вопреки всему свету там, в горах, и были так счастливы своей простой работой в лесу. Сотни жестов обрушились тогда на мою память, сотни слов, прежних жестов и слов, тогда разрозненных, а теперь связанных этим великим пониманием. И только новая команда тех двух людей: «Пошли!» — отогнала эти мысли, к которым когда–нибудь, когда я их призову, я стану готовиться, как к празднику.
— Пошли! — снова сказали они, и отец, спустившись с лестницы, двинулся вслед за ними.
— Пошли! Давай!
И я тихо заплакала, потому что эти уродливые слова, кривые, пораненные зубами, эти плохо выученные слова заставляли все же отца подчиниться, и я прокляла птиц, у которых научились эти два чужеземца, и прокляла лес, что открыл им их смысл, и длительный голод я прокляла, голод, который обострил их ум и их безумие — безумие отчаяния, постоянного напряжения слуха, глаз, их обезумевших желудков, которые ждали избавления — сперва от бегства, потом от терпения, потом от смерти терпения, выучив у лесной чащи, у зверей и птиц эти слова, чтобы сказать их в последний раз, эти предательские слова, потому что они были сродни лесу, и еще потому, что он их понял тогда.
— Пошли давай!
И они все трое отправились по тропинке. Отец так привык. Он был приучен к тропинке, как и все люди, которые когда–либо к нему приходили и которых он принимал, ни о чем не спрашивая. И с которыми он часто молча встречался на этом пути, проделанном в знак того, что люди друг друга ищут. И по нему он шел сейчас, а в спину ему упиралось ружье. И не знаю уж, что он хотел сделать, почему повернулся — может быть, защититься или подать нам знак, только они выстрелили, и война окончилась год назад.
Читать дальше