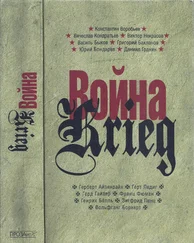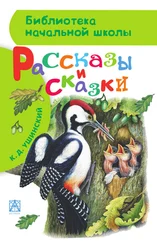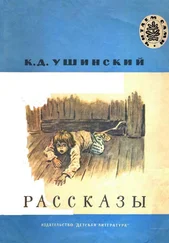— Ого-го-го! — рыдающе отозвался Грачев, и страх его прошел. Он понимал, что человек этот ничем не может помочь ему, но уже одно сознание, что тот готов помочь, странным образом ободрило его и прогнало страх.
— Что случи-илось? — прокричал голый. Грачев покрепче обхватил куст и ответил, что все в порядке. «Туча минует, и тогда я подтащу лодку на остров», — подумал он. Человек крикнул: «Хорошо» и побежал к машине, но уехал он лишь после того, как улегся шквал и проглянуло солнце…
Купе гудело туго и ладно. Грачев долго лежал с закрытыми глазами и с горечью думал о бессилии художника явить в своей картине то, что выражается только словом. Вот как в той, которую он только что «видел». Как ее нарисовать? Как выразить ее сокровенную сущность — человек-человеку? «Писателям, конечно, проще, — думал он, — хотя дело всегда и только в таланте. И еще в любви и познании. И писать книги, и рисовать картины надо мягкими теплыми тонами. И чтобы сердце обязательно знало и любило то, о чем ты хочешь сказать. Только тогда возможно помочь читателю или зрителю восхититься самим собой как человеком…»
— Давай, давай, он хор-роший! — проговорил во сне суворовец. Одеяло сползло с него на пол, и Грачев поправил его, с трудом удерживаясь, чтоб не потрепать рдяное мальчишеское ухо спящего. «Сам ты хор-роший! Чи-ижик», — засмеялся Грачев. Он лег и стал глядеть на маленький Млечный Путь под потолком вагона. «Погоди, как это было, когда я узнал, что он, тот человек, что меня допрашивал, хор-роший?» Грачев нарочно для себя притворялся зачем-то, что вспоминает. На самом же деле «картинка души» всплыла перед ним сразу же, как только суворовец произнес свою фразу…
Это было, когда грачевские партизаны и сам он проходили госпроверку. Его допрашивал молоденький лейтенант-смершовец. В то время у таких, как Грачев, было принято спрашивать: «Как ты сдался фашистам», а не: «Как вы попали в плен». Нет, Грачев не испугался и не оскорбился, — он просто тихо заплакал и положил на стол свой потайной маленький браунинг. Лейтенант удивленно-внимательно поглядел на Грачева и каким-то трудным усилием руки пододвинул к нему оружие.
— Так, значит, вы попали тяжелоконтуженным? — спросил он, склоняясь над протоколом.
— Я ведь сказал, что нет, — возразил Грачев.
— Что нет? Как это нет? — шепотом заорал лейтенант. — Что, я не знаю, как попадали в плен, да?!
«Это же надо рисовать светло-розовым и золотым», — подумал Грачев, и Млечный Путь под потолком вагона двоился, рос и ширился, и Грачев не утирал слез…
1967 г.
Автобус взревел, расцвел малиновыми огнями и ушел. И сразу весь его облик показался мне нелепым и враждебным, — он мог быть куда красивей и обтекаемей, и кондуктор в нем была вздорной и бездушной мегерой, и шофер не протрезвел со вчерашнего выходного дня, и среди всех этих загородных пассажиров, оттеснивших меня, не было ни одной симпатичной физиономии!..
Я сошел в кювет и присел там под топольком-подростком. Шел девятый час, а солнце уже прогрело асфальт, и дорога знойно струилась вдали черным, густым ручьем.
— Не залез?
Это спрашивали меня. Сзади. Из-за куста ивняка. Удовольствия мало — вступать в разговор о своей собственной оплошности, но голос был радостный, звонкий, ребячий. Сквозь зелень веток на меня смотрели маленькие, черные глаза. Больше ничего не было видно — только глаза, будто созревшие зерна смородины, повисшие на кусте.
— А ты сам залез? — спросил я.
— Я-то залезла! Прямо в кабину! Да только папашка прогнал…
— Чего ж это он?
— Контролей боится. А ты их не боишься?
— Ну… когда как.
— А он каждый день! Так пужается, так пужается… Их страсть тут на его линии!
Было ясно: со мной разговаривала дочка шофера ушедшего автобуса. На секунду я представил себе этого человека. Он был кареглазый, словоохотливый… Рубаха на нем с открытым воротом… Ходит вперевалку, как все добродушные люди… Я всем телом повернулся к кусту и сказал:
— Ну чего ж ты там сидишь? Иди сюда.
— А я не сижу. Я стою тут! — отозвалась девочка и засмеялась моей ошибке.
— Все равно иди, — сказал я.
— Так я вся мокрющая, хоть возьми и выжми.
— Где же ты так намокла?
— А в лесу, когда бегла за папашкой.
— Да разве там нет у вас дороги?
— Больше не было. Одна только. А по ей он сам и шел…
Я встал и направился к кусту. Смородинки выросли, заблестели, но с места не тронулись. Лицо у девочки было круглое и смуглое, как ржаная коврижка; нос удивительно крохотный, с прозрачными крыльями; толстая, вороная косища смешно оттопыривалась как-то вбок; мокрый подол ситцевого платья прилип к прямым и тонким, как свечки, ногам.
Читать дальше