Но если аристократичность есть самоуважение, то надо очень своеобразно понимать его, чтобы пользоваться подобными Молли. Разве это не аналог дерьма? Кейтон снова пытался оправдать себя и плотским голодом, и уродством, но в воображении невольно продолжал диалог с братом, мысленно представляя, что сказал бы на это Льюис. «Любой искус, который заставляет пренебречь уважением к себе — он или дьявольский, или плебейский, мой мальчик, а любые оправдания неуважения к себе столь жалки и смешны…»
Да. The cat shuts its eyes when stealing cream. Воруя сметану, кошка закрывает глаза. Кейтон не умел лгать самому себе.
Сам Льюис был удивительным человеком — это Энселм стал понимать только сейчас. Жаль, брат умер столь безвременно. Он и вправду многому научил его, причём, лучшему в нём. В начале тех времён, когда душа Энселма начала волноваться присутствием женщин, и на белых листах стали появляться ножки и бюсты, тесня стихи, и плоть тяготила его, именно брат мог бы остановить его у той грани чистоты, которую он столь бездумно преодолел — и сколь был разочарован смрадом притонов и вульгарностью потаскух… Теперь Кейтон пытался уверить себя, что восстание плоти ещё не есть торжество гениталий над разумом, а суть причуды восприятия душой нежных запахов и томных изгибов женских талий, тонких запястий и хрупких ножек, в нём скорее сила, чем вина… Задыхаясь прикосновеньями губ к сакральным членам, обезумев белизною разъятых ног, где услышать тихий упрёк совести, когда дышит дыханьем твоим безумие? Но он снова покачал головой в тягостной бессоннице. Не лги, распутник, не лги себе. Липкий страх подцепить что-то от одной из этих жриц любви всегда был в нём — и никакое желание над ним было не властно. Он всегда помнил себя.
В памяти всплыл ещё один эпизод, когда слова брата зацепили его, коснувшись души. В четырнадцать лет он уже не молился, вняв в Вестминстере нескольким кощунственным пассажам дружков. Льюис тогда спросил его, почему он не ходит к службе? Энселм ответил, что глупо верить в то, чего нет, про себя же подумал, если бы справедливый Бог существовал — Он не сделал бы его уродом…
— Мальчик мой, ты — дворянин, — услышал он тогда. — Бунты — это удел рабов. Дворянство никогда не бунтует, тем более против Бога — высшей Любви и высшего Благородства. Ты можешь проклинать — но только свои страсти, ненавидеть — но только свои грехи, презирать — но только своё несовершенство. Никогда не отрицай Бога — это безумие ослеплённого. Никогда не возвышай голос против Него — это озлобленное лакейство. Никогда не гневи Бога и блюди заповеди Его — это принцип разума. Люби Бога — это уже патрицианство духа. Это свобода.
Кейтон запомнил и это, старался ходить в Мертоне к службе, молился, как мог, и никогда больше не высказывался атеистически, хоть и поныне многого не понимал. «Высшая любовь и высшее благородство…». Он знал, что никогда не сможет уразуметь заповедь о любви. Она не вмещалась в него. Любовь к Богу была абстракцией — он не чувствовал Его присутствия в своей жизни и не мог, не умел и не хотел любить ближних. Ему не было до них дела. Принцип же свободы, над которым он весьма мало размышлял, был для него требованием равенства с лучшими и желанием, чтобы его оставили в покое.
Часы аббатства отбили четыре утра. Кейтон застонал.
Потом в голове его замелькали воспоминания прошлых лет, какие-то школьные потасовки, всякие вздорные пустяки, но сна не было. Кейтон смутно слышал, как матушка Ричардс, споря в коридоре с Рейсом, увела полупроснувшихся девок, потом вернулся Клиффорд, задев на столе бутыль с вином и опрокинув её в блюдо с жареной свининой, громко храпел Камэрон — потом Кейтон перестал различать звуки.
Проснулся он за час до полудня — и заторопился к тётке. Придя домой, первым делом велел наносить воды в ванную — Энселму казалось, что иначе ему не избавиться от душного смрада дешёвых духов. Ему не понравился тёткин взгляд, которым она окинула его по возвращении, в нём ему померещились насмешливая издёвка, казалось, леди Кейтон прекрасно поняла, какой долг и куда призвал его в эту ночь. Кейтон сказал себе, что это фантомы больной совести, сам посмеялся сказанному, но чувствовал себя гадко. Остаток дня отмокал в ванной, стараясь даже мельком не увидеть себя в зеркалах, потом читал, а вечером сопровождал тётку в театр.
Сидя в ложе на скучнейшей пьесе, поинтересовался у леди Эмили:
— А что, тётя, зимний сезон был удачен? Я слышал, много шума наделала мисс Вейзи? Она и вправду хороша?
Читать дальше
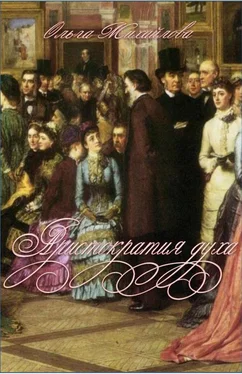
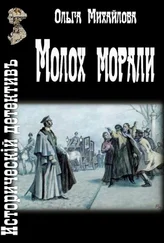







![Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-thumb.webp)
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

