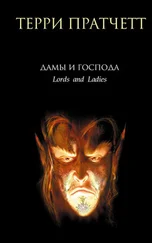Жизнь с памятью утрат, без родины, с постоянной надобностью заработать денег на существование. Так вместе со своими сверстниками из России взрослели дети Ирины.
Много лет спустя, купив свой первый автомобиль, ее младший сын Илларион, как рассказывали, сажал в него глухую, с седой трясущейся головой няньку и с шиком катал ее по Парижу.
«Совсем особенная» Маша с возрастом не потеряла этого качества и осталась таковой до конца своей долгой, в девяносто четыре года, жизни.
В книге, посвященной Мисхору и его обитателям, А.А.Галиченко и Г.Г.Филатова писали о дочери Ирины Васильевны следующее:
«Унаследованные от матери красота и душевные качества притягивали к себе окружающих и в то же время содержали какую-то волнующую загадку, заставляя людей держаться на расстоянии».
И ты пришла, необычайна,
Меня приметила впотьмах,
И встала бархатная тайна
В твоих языческих глазах.
Такими словами описал Владимир Набоков юную красавицу Марию Воронцову-Дашкову в посвященном ей стихотворении.
В Париже Мария вышла замуж за племянника Николая II, сына той самой великой княгини Ксении Александровны, которая когда-то называла ее «замечательной, милой девочкой». До конца своих дней Мария Илларионовна предпочитала оставаться подданной России, отказавшись принять иное гражданство, дававшее, разумеется, социальные блага, вовсе не лишние при эмигрантской доле.
Всю свою жизнь Мария Илларионовна возвращалась мыслью к кладбищу на горе и могиле, в сохранении которой она имела все основания сомневаться. В конце 70-х годов ей удалось передать на родину просьбу «отметить по-христиански место захоронения матери». Ее просьба, вопреки всем идеологическим установкам, была выполнена сотрудниками Алупкинского дворца-музея. На разрушенном и изувеченном мисхорском погосте, ко всеобщему удивлению окружающих, появилась новая небольшая мраморная плита с православным крестом и лаконичной надписью: «Ирина Васильевна Долгорукая. 1879—1917».
* * *
А теперь вернемся к тому роковому семнадцатому году.
Жизнь брала свое. Смерть Ирины заслонили другие события. В дневнике императрицы об этой трагедии больше записей нет.
Однако в семейной переписке Шереметевых имя Ирины поминалось часто. И тому были причины. Ее гибель не просто потрясла Павла — у него появились признаки душевной болезни. Конечно же были предприняты все меры, чтобы вызволить его из страшного состояния.
Лечение дало свои плоды. Но отец Павла, граф Сергей Дмитриевич не слишком обнадеживался «тихим и примирительным», по его мнению, состоянием сына.
Не без глубокой тревоги он писал из своего петербургского дворца на Фонтанке, имея в виду Ирину:
«Она все еще сидит в его голове».
* * *
После октябрьского переворота, не желая, чтобы художественные ценности, собранные за два века, стали добычей мародеров, старый граф Шереметев решил передать свой особняк новой власти. По его поручению Павел пошел к наркому просвещения Луначарскому и положил ему на стол связку ключей.
Шереметевы переехали в Москву, в свой родовой дом на Воздвиженке. Сергей Дмитриевич вскоре умер. Его похоронили в Новоспасском монастыре, там нашли последний приют уже несколько поколений их семьи по соседству со знатными москвичами, предпочитавшими, где бы они ни жили, упокоиться в земле древней русской столицы. Однако скоро надгробия Новоспасского монастыря были отправлены на хозяйственные нужды, могилы срыли, а за высокими стенами устроили тюрьму.
У Павла Сергеевича еще оставался шанс уехать. Он знал, что многие родственники и знакомые всеми правдами и неправдами сумели выбраться за границу и тем спасли себя.
Шереметев уехать не захотел. Ему исполнилось уже пятьдесят лет, когда он женился на княжне Прасковье Васильевне Оболенской, хотя по новым правилам следовало говорить — гражданке Оболенской. У супругов родился сын, назвали его Василий, по-домашнему — Василек.
К этому времени московский особняк Шереметевых на Воздвиженке национализировали, жить в городе было негде, и Павел Сергеевич с семейством перебрался в принадлежавшее им подмосковное имение Остафьево. Там они заняли комнату во флигеле, где раньше жила прислуга.
…Несмотря на все перипетии, Павел Сергеевич продолжал работу над историческими изысканиями. Еще до октябрьских событий он с группой единомышленников задумал издать серию книг, посвященных русской усадьбе.
Читать дальше
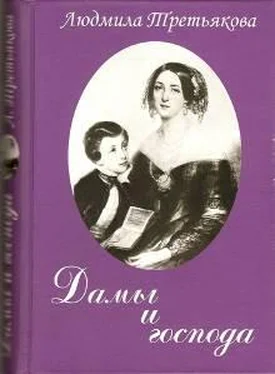


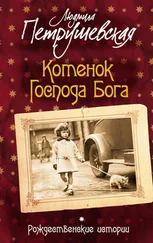

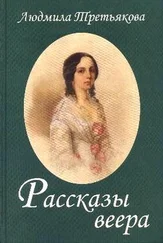
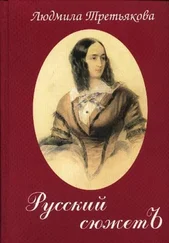

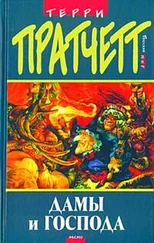

![Терри Пратчетт - Дамы и Господа [litres]](/books/406987/terri-pratchett-damy-i-gospoda-litres-thumb.webp)