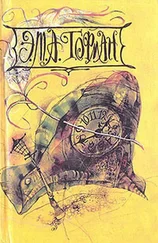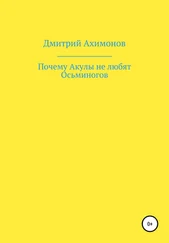Ахим Арним - Майорат
Здесь есть возможность читать онлайн «Ахим Арним - Майорат» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Саратов, Год выпуска: 1996, Жанр: gothic_novel, sf_mystic, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Майорат
- Автор:
- Жанр:
- Год:1996
- Город:Саратов
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Майорат: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Майорат»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Майорат — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Майорат», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
На бедность Хоф-дама не жаловалась, благодаря учрежденным специально для нее двум персональным пенсиям; когда-то она служила у двух принцесс, и обеих пережила. Прежние знакомцы — дипломаты, сановники — являлись к ней за туалетом, в зеркалах старинного трельяжа, и, вкушая по чуть-чуть от всяческих бульонов и отваров, имеющих целью сохранить давно уже увядшую красоту, она царила на ежедневном своем маленьком празднике и заодно пересказывала призрачным своим гостям последние городские сплетни.
Началась история эта весной, когда в одно из воскресений, выглянув по привычке в окно, Хоф-дама увидела нечто экстраординарное. По улице шел Лейтенант, но как он шел! Весна как будто добралась и до него, и свежая листва преобразила его совершенно. Новенькая, последнего фасона шляпа с настоящим пером вместо убогой шерстяной метелки, сверкающая шпага с гардой, с иголочки, зауженный к низу мундир, укороченные жилетные кармашки и новые же черные бархатные панталоны — провозгласили в мировой истории новый период. Чуть времени спустя Лейтенант ворвался к ней в комнату и с порога отрапортовал: «Дорогая кузина, сегодня в город приезжает Майоратс-херр, мать его умерла, а ему самому какой-то медиум посоветовал переехать в наши палестины, ибо здесь-то, мол, и обретет он наконец покой и излечится от страшной лихорадки, совершенно его измучившей. И вы представьте себе: молодой человек, по словам его покойной матушки, питает к майорат-хаусу явное отвращение, он хочет поселиться у меня, навсегда, и просил подготовить для него подходящую комнату, а для покрытия расходов передал мне весьма изрядную сумму денег. Однако домишко мой, сдается мне, вряд ли подойдет для этакого барчука, он ведь богат, а значит избалован; к сожалению в нашей большой семье царят законы совершенно кошачьи: первенца кормят, холят и лелеют, а младших его братишек и сестренок суют в помойное ведро головою вниз, и все дела». — «Но ведь однажды вы и сами чуть было не заполучили майорат,» — сказала Хоф-дама. «Да уж, — отозвался Лейтенант, — мне было тогда лет тридцать, а дядюшке моему — шестьдесят, а детей у него не было. И взбрело же ему в голову жениться еще раз, и на молоденькой. Тем лучше, подумал я, она-то его насмерть и уездит. Но обернулось к худшему; он, конечно, вскорости помер, однако жена его незадолго до этого успела-таки родить ему сына, нынешнего майоратс-херра, а я остался с носом!» — «Но если молодой человек, не дай Бог, умрет вдруг, владельцем майората станете вы, — сказала Статс-дама тоном совершенно спокойным, — умирают старики, они умирать обязаны, но случается умирать и молодым». — «Как на грех, — отозвался Лейтенант, — и священник говорил о том же в сегодняшней проповеди». — «А что пели? — спросила Хоф-дама, — скажите мне, я тоже буду молиться сегодня». Лейтенант напел первые несколько тактов; пела она тихо, он слушал, расчесывал пуделя, и на губах его играла счастливая улыбка. Когда он поднялся, чтобы откланяться, Хоф-дама взяла с него слово: как только молодой человек прибудет в город, представить ей его незамедлительно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Майорат»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Майорат» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Майорат» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.