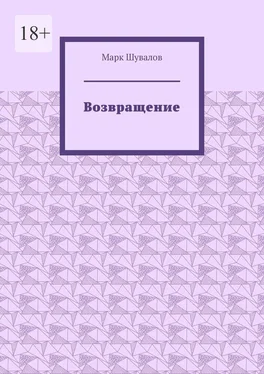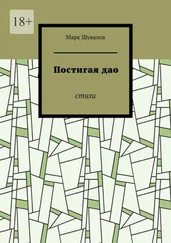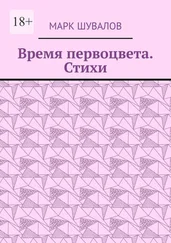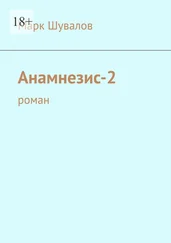Мышцы размягчились, как теплый воск, а янтарная масса продолжила проникновение теперь уже вглубь моего существа – к желудку, потом – к паху, и оттуда по внутренней стороне бедер – вниз, к ступням, будто чья-то нежная рука прошлась.
Я отдавался ассоциативному потоку, хотя возможно ли отказаться от нарративности в этом процессе?… Как там Нинель нас учила по Шкловскому – увидеть предмет заново, в его первоначальном смысле? Лично для меня в данный момент визуальность остранения реализуется вполне конкретно – оттиском образа рядом находящегося существа на коже, как на бумаге или холсте, в виде ирреальной, но осязаемой графики, различные техники которой объединились в коллаже, сдвинув взаимные коннотации отдельных элементов изображения. Мысль вдруг совершенно явственно проявилась отпечатком руки, ее следом, воплотившим значения, воспоминания, соответствия, чьи абстрактные изображения и асемантические ряды тут же упорядочились на предмет соответствия друг другу и перевели сознание к пространственно-цветовому восприятию.
Стоп, хватит, не хочу больше погружений! Вот повернусь сейчас, увижу и просто, без всяких заумей, скажу. Но что? Меня ж по идее вчера бросили. Или это я бросил? Чёооорт, как неприятно звучит, неблагозвучно и похоже на «струсил». А ведь я поклялся… Так струсил или нет? Нет, если учесть мою вчерашнюю честность, и – да, если принять ее итог.
Как все это связать? Ведь на любое действие и поступок всегда можно взглянуть с одной стороны, а можно совсем с другой, и объясняй потом, что ты имел в виду. Именно так, никому не желая зла, и попадают в ад – не после смерти, а здесь, на земле. И данное вообще от тебя не зависит. Главное – повезло ли тебе в этой жизни, подфартило ли, к примеру, родиться там, где следует, и особенно – таким, как нужно. Мне не подфартило, да и пошло все куда подальше: что той жизни – а любви еще меньше. Так, вроде, говорят?
Ёпс, вот из каких запасников в моей башке вылезают все эти устойчивые словосочетания? Лысый был мастак на них – ходячая энциклопедия ментальных выражений. Да, был… невозмутимый, элитарно-отрешенный гедонист с концептуально обритой головой и приверженностью невразумительной полумистической философии, но главное – с прозрачным холодным взглядом.
Когда он смотрел на меня – слишком внимательно, пульсируя зрачками и что-то в душе моей переворачивая, ощущал я себя под его взглядом, словно льдинку сглотнул, а она где-то в животе остановилась и холодит, волнует все мое существо…
Глотал я как-то кусочек льда в жаркий день, и мурашки по телу бежали, будто вот-вот кто-то сзади подойдет и нежно обнимет… то ли 13 мне тогда было, то ли 14…
Как сжимается время в памяти, словно концентрируется, сгущается, и уже не видишь мысленным взором всей череды прошедших мелких событий, лишь яркие вспышки-моменты, как разноцветные лампочки… Почему именно это запомнилось? Нечто сливочное. Ах, да, нравилась мне тогда беляночка Лора, нежная, как мороженное, с изумительно голубыми глазками… но на самом деле, я о старшем брате ее блондинистом думал, только не понимал этого почему-то, словно шоры младенческие с глаз до времени не сбросил. Странно, ведь истово дрочил на этого пацана, а сознание упорно маскировало все под влюбленность в Лору…
Потом появился Лысый. Его семья переехала в наш дом, и в первый же день этот худой, серьезный и в ту пору бывший очень резким и ершистым, подросток сам ко мне подошел и вопросы всякие начал задавать – кто, что, чем тут дышит. А потом предложил на залив смотаться – закат посмотреть, дабы проникнуться. От такой постановки вопроса я ощутил восторг и в восхищении чуть в обморок не опрокинулся. В те времена я ведь опасался куда-то слишком далеко один ходить, даже мое природное любопытство в этом вопросе основательно буксовало. А тут первый раз забыл об осторожности – да обо всем забыл, за что и оказался с лихвой вознагражден, ведь Лысый уже тогда становился собой нынешним. А вместе с ним и я.
Лора отошла на второй план, а потом на десятый. Братец-то ее бритоголовый, похожий на молодого бульдожика со слегка выступающей нижней челюстью, с наивным лобешником и подвижными надбровьями, уехал в Москву (Питер его чем-то не устраивал) и поступил там. Да не абы куда, а в Бауманский. Вот так-то, а ведь всегда казался мне обычным качком – стеснительным, легко краснеющим и не способным двух слов связать. Это-то и делало его в моих глазах совершенно неотразимым. Но внешность бывает очень обманчивой.
Читать дальше