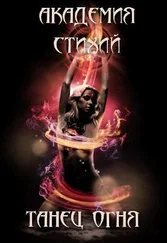Подруга уже включилась в ритм. Я осторожно переступила ногами.
Шаг вперед. Назад. Ручку вверх. Ручку вниз. Вот так. Не увлекайся. Помни, в любую минуту ты можешь развалиться на куски.
Я заулыбалась, осторожно переступая ногами в такт музыке: вот она я, смотрите, какой славный инвалид, не чуждый скромным радостям жизни, какая миленькая калека, прислонившаяся к чужому счастью кривым бочком, — стоит себе, никому не мешает, играет в жизнь: ручку вверх, ручку вниз, а теперь плечиком, плечиком, да правым, дурочка, правым, левое-то побереги.
Мне стало противно. Нет, это невозможно. Уж выбирай: или жить, или умирать, и если не можешь жить, то нечего делать вид, что не умираешь. Нельзя танцевать и помнить о смерти.
Я тихонько сошла с танцплощадки, и меня тут же не стало. Чертова калека, сказала я себе, только попробуй разреветься.
Я вернулась в зал.
На столике догорала свечка, колеблясь неровным, рваным светом в пустых бокалах из-под шампанского. В пустом аквариуме валялись мертвые ракушки.
А не сходить ли мне в туалет, вдруг практично подумала я, пока я не села, пока нет необходимости снова вставать. Вставать — это было самое трудное. Как, впрочем, и садиться тоже. Никто не знает, как это тяжело и противно — каждый раз делать вид, что встать или сесть для тебя не составляет никакого труда, что это раз плюнуть, обычное дело, совершаемое автоматически. Никто не знает, как быстро приспосабливается тело экономить движения, как быстро соображают мозги, что нужно соврать и какое выражение придать лицу, чтобы было не так заметно, как оно исказилось.
Да, не стоит упускать такую возможность.
И я пошла в туалет.
В туалете было чисто и скучно. На чистом кафеле скучно толпилась небольшая очередь, зорко следя за освобождающимися кабинками, за периодически открывающимися дверками которых сверкали отчаянной белизной забавные, похожие на крошечных бегемотов, унитазики. Некая девица активного телосложения стояла возле зеркала, обильно смачивая водой блондинистые виски. Она была маленькой и коренастой, с бесцветными ресницами и курносым веснушчатым носом. Девица неинтересно глянула на меня в зеркало. Я поспешно уставилась кому-то в затылок.
Очередь была не так чтобы длинной, но и не так чтобы уж очень короткой, впрочем, это было не важно, поскольку стояние в очереди в таком малопривлекательном месте, как туалет, само по себе было занятием невыразительным, что, конечно, никак не способствовало улучшению настроения, отчего в голову продолжали лезть всякие грустные мысли — и мысли, рождавшиеся от стояния в очереди в таком малопривлекательном, хотя и безусловно общественно-полезном месте, как туалет, состояли в том, что вторая моя любовь оказалась нисколько не лучше первой, а даже наоборот — сущим адом оказалась моя вторая любовь. Сущим адом…
Хотя сначала-то мне, конечно, казалось наоборот.
Сначала-то мне, конечно, казалось, что вот оно, долгожданное мое счастье, вот она, моя настоящая любовь, самая настоящая, без обмана большая и без подвоха светлая, — о наконец-то, наконец-то пришедшая ко мне в образе моей милой и славной, ласковой моей и так любящей меня, дорогой моей девочки, моей ненаглядной, моей единственной!
Я покачала головой.
И ведь не дура уже была, ведь вот уже и тридцать мне было — тридцать! — не девочка какая-нибудь несмышленая — взрослая женщина, замужняя и солидная, а вот поди ж ты, умнее не стала, а еще и глупее стала со второй-то любовью, так что даже и от мужа ушла — ну, не могла, не хотела ни с кем делить свою любовь, свою радость, чувство свое, большое и светлое, глаз от которого не могла оторвать, надышаться которым не могла — ни надышаться, ни наслушаться.
А она-то, — она-то! — смотрела на меня нежными, сияющими от счастья глазами, и губы ее начинали дрожать так, что, казалось, заплачет сейчас от невыразимости чувств, от великой своей ко мне нежности!
"Люблю тебя, — говорила, — до чего же я люблю тебя, я не могу без тебя жить, мне никто не нужен, кроме тебя", — и все смотрела на меня так, что душе становилось больно от такой непомерной нежности и глубины чувств. Моя, моя! — пело мое сердце — моя навеки!
Ровно через четыре месяца она потом так же на другую смотрела. И даже не так же — не так же, если уж при великой своей ко мне нежности вдруг смогла переключиться на другую — всего-то через четыре-то месяца, — с еще более великой, надо полагать, нежностью на нее глядя, которую, нежность, и имела я счастье неоднократно наблюдать, а раз наблюдать, то и сравнивать, поскольку нежность к другой от меня, естественно, не скрывалась — некогда было ее скрывать, да и незачем, да, собственно, и не от кого, тем более что уж слишком, слишком великой она была, эта нежность к другой, возникшая вдруг ровно через четыре месяца, — так что даже не было сил ее скрывать, а может, все силы в нежность уходили, может поэтому не было сил ее скрывать, эту великую нежность к другой, которую и вынуждена была я наблюдать, а раз наблюдать, то и сравнивать. Потому как уйти — не могла.
Читать дальше