Конечно, он и не думает уходить.
— Ну как ты тут? Оооо, цветочки? От поклонника?
Он на три вдоха замолкает, а затем тихонько говорит.
— Странный букет.
Что значит странный? Перед тем как ты аккуратно закроешь дверь и уйдешь, расскажи мне, какой он! Давай! Ты дышишь моим относительно свежим воздухом из моего открытого окна, так что отрабатывай! Какой он?
— Очень странный… Дорогой, но дохлый. Понимаешь, что я имею в виду? Неживой, понимаешь? Розы какие-то малиновые, трава дурацкая… Я бы на твоем месте того, кто приносит такие букеты, и близко бы не подпустил.
Дохлый дорогой букет? И правда, странно. Но как, спрашивается, я могу кого-то не подпускать, когда вот уже пять дней, вернее, шесть, лежу тут не двигаясь? И понятия не имею, кто принес цветы? Спасибо, что рассказал мне про букет. Я признательна, правда. А теперь иди. Разве ты не чувствуешь, что с каждой минутой воздух раскаляется все сильнее, пока тот, кто никогда не будет моим, торопится ко мне?
Может быть, подозрительный тип этого не чувствует. А может, ему плевать. Но, вместо того, чтобы выйти и аккуратно закрыть дверь, он спрашивает:
— А ты давно тут? Что с тобой случилось? Ни одной царапины вроде бы не видно. Может, под одеялом?
Черт! Не трогай меня! Проваливай!
— Ага, испугалась! Не волнуйся, я слишком хорошо воспитан, — смеется он, а откуда-то из детства мне подмигивает бабуля: «И когда вы перестанете обольщаться?!»
— Вообще-то ты симпатичная. Давай дружить, а?
И вот тут… Тут мне почему-то становится легко. Жара отступает и уносится в открытое окно, а в комнату врывается ветер. Он приносит с собой запах бензина и летней пыли, но это ерунда. Я и забыла, как это здорово — не чувствовать ни жары, которую приносит с собой тот, кто никогда не будет моим, ни изматывающего холода, который пробирает до костей. Неужели так и живут женщины, которые никого не ждут? Неужели я и сама жила так же, пока не появился тот, кто от меня ускользает?
Если бы я могла, я бы, наверное, засмеялась. Вы можете мне не верить. Я бы и сама не поверила на вашем месте. Но пока я веселюсь про себя, из моих губ вылетает звук, очень похожий на смешок.
— Что это? У меня галлюцинации или ты смеешься?
Я замираю: и правда, что это было?
Подозрительный тип садится рядом со мной, и я чувствую, что он очень внимательно смотрит мне в лицо.
— Знаешь, что я думаю? — говорит он наконец. — Я думаю, что ты лежишь тут из вредности. На тебе же ни одной царапины нет! Тебе, наверное, нравится, что вокруг тебя суетятся родители и поклонники с цветами… Приятно, что они волнуются, и все такое… А на самом деле могла бы встать и уйти домой, ты просто не хочешь.
Он встает и идет к двери, но на полпути останавливается.
— А может, ты встаешь и прыгаешь тут на одной ножке, когда никто не видит? Может, тебе просто нравится водить людей за нос, а?
Я молчу. Глупо было бы оправдываться в моем положении.
— Ну все, мне пора. А ты будь другом, никому не говори, что я приходил. Мне совершенно не хочется выяснять отношения с поклонниками, которые присылают такие букеты.
Он так аккуратно закрывает дверь, что она почти не скрипит, а я опять остаюсь одна. Я не прыгаю тут на одной ножке и понятия не имею, кто прислал мне дохлый букет, верьте мне. Но не думайте, что я не заметила, как он ловко втерся ко мне в доверие.
— Ты дома? Одна? Не против, если я заеду?
На линии что-то трещит и лопается, а его голос звучит так глухо, как будто он звонит с того света.
— Я забегу ненадолго: освобожусь поздно, а завтра вставать в полшестого. Может, напоишь меня чаем? Кофе не надо, после него я не засну.
Он вешает трубку, а я иду на кухню ставить чайник. Мне двадцать шесть, и к его приходу я приготовлю вкуснейший капуччино, посыпанный корицей. Разумеется, он не сможет от него отказаться, и потом до половины шестого станет проклинать меня последними словами, ворочаясь без сна у себя дома на узком диване, который ему было некогда разложить.
Ровно три с половиной месяца от взаимного признания в симпатиях до первого секса. И еще два с половиной — до второго. Не потому, что он настолько консервативен, а потому, что он слишком занят. Все личное в последнюю очередь — в промежутке между половиной двенадцатого вечера и половиной шестого утра. Он работает на будущее, не исключено, что на наше общее, и я не против. Он появляется поздно, а исчезает рано, и иногда я спрашиваю себя: был ли он здесь или я все придумала?
Пятнадцать минут на вечерние новости. Десять минут на газету. Три минуты на звонок родителям, полторы — на последнюю сигарету. Моя очередь даже после сигарет, и иногда я специально прячу газету, чтобы он потратил десять минут на поиски и выбился из графика.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
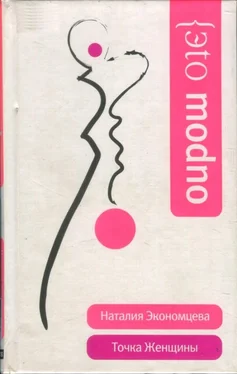

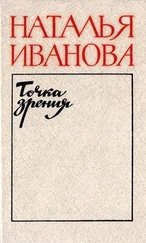
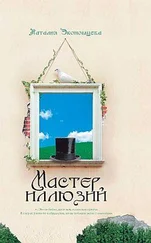

![Наталия Антонова - Тень другой женщины [litres]](/books/387963/nataliya-antonova-ten-drugoj-zhenchiny-litres-thumb.webp)






